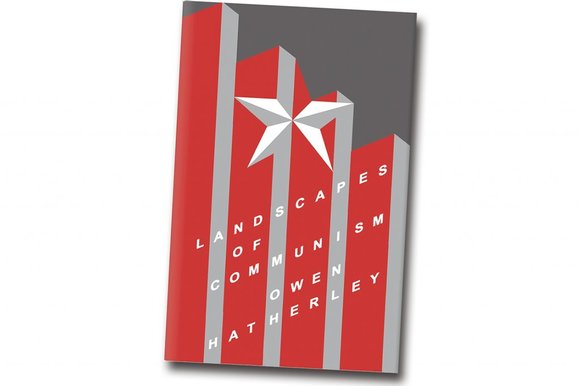Андрей Шенталь поговорил с Хэзерли о коммерциализации конструктивизма, ностальгии по семидесятым и о том, как и почему на Западе появился интерес к советской архитектуре.
Вы объясняете свою ностальгию по временам социальной демократии «критикой нехватки амбиций и гротескного неравенства», и это, на мой взгляд, вполне справедливо. В то же время, повсеместная одержимость послевоенной архитектурой и искусством, нарастающая с середины нулевых, кажется мне подозрительной и даже опасной, потому что идеализация социальной демократии ограничивает политическое воображаемое и утопическое мышление. В этом году эта тенденция воплотилась в фигуре Джереми Корбина, лейбориста с умеренными политическими взглядами, которого сегодня считают чуть ли не радикалом.
Перед тем, как написать свою первую книгу [«Воинственный модернизм», 2009 — А.Ш.], я прочел слишком много Вальтера Беньямина. Я верил в то, что при определенной перспективе некоторые вещи из прошлого можно реактуализировать в настоящем. Думаю, это было серьезной ошибкой. Сегодня предельно ясно, особенно в Британии, что ностальгия по архитектуре социальной демократии легко уживается с неолиберализмом, во многих отношениях эта ностальгия связана с переоценкой стоимости конкретных объектов. Например, Белфрон Тауэр (Balfron Tower) в Лондоне продается как культовое здание, и архитектурная слава этой постройки напрямую способствует её приватизации. Так что уже пять лет я живу со следующим чувством: «Это совсем не то, что я имел в виду! Я имел в виду другое!»
В то же время, это [обращение к архитектуре времен welfare state — А.Ш.] имеет смысл с точки зрения политического воображаемого. То, как я к ней обращаюсь, и то, как я к ней привязан, это вопрос о возможном и невозможном. Если вы, к примеру, скажете, что большая застройка бывшей индустриальной части Лондона должна состоять исключительно из нового социального жилья, в сегодняшних политических дискуссиях вас сочтут еще большим радикалом, чем Корбина. В этой связи полезно вспомнить, что именно такой подход когда-то был мейнстримом: он был не радикальным, а общепринятым. Лейбористы и либералы того времени подписались бы под этим. Высказывание о том, что вещи, которые сегодня называют утопическими, слишком амбициозными или коммунистическими, когда-то были нормой, считается чересчур левым. Я не хочу способствовать фетишизации, но она уже все равно произошла, и я уверен, что некоторым образом способствовал этому своими текстами об эстетике. Однако архитектура эстетична и осязаема, так что о ней невозможно (и скучно) писать как в чистой социологии.
В своем докладе вы упомянули штаб-квартиру Channel 4 Ричарда Роджерса и здание Ллойда в Лондоне, приводя пример того, как огромные корпорации и финансовый капитал ассимилирует прогрессивные конструктивистские идеи. Как мы сегодня можем вернуть их себе?
Я не знаю как, и, возможно, что вообще не стоит этого делать. Поскольку на лекции у меня было не так много времени, я говорил о здании Ллойда меньше, чем обычно. Мне кажется, что здание Ллойда — это одно из самых интересных зданий, построенных в Британии в XX веке. Я не знаю зданий в Лондоне, которые бы его превосходили, за исключением церквей Николаса Хоуксмура. Точка. Это — архитектурный шедевр. И я не думаю, что здание было пародией на Якова Черникова; его проекты могли послужить одним из источников вдохновения. У меня есть любимый анекдот по этому поводу. Когда здание начали строить, и уже было видно, каким оно будет, один из директоров Ллойда обратился к Роджерсу с вопросом: «Почему вы не предупредили нас, что оно будет выглядеть так?» На что Роджерс ответил: «Потому что я сам этого не знал». По этой причине оно и является шедевром. Здание Ллойда обращается к конструктивизму скорее как к теории, нежели как к эстетике: оно постепенно обретало все новые функции, постоянно развиваясь и отвечая на запросы разного времени [здание строилось около восьми лет — А.Ш.]. Конечно, в результате оно превратилось в фиксированный эстетический объект, который считается прекрасным (что действительно так). И это несмотря на то, что дизайн здания предполагает изменения и непрерывное развитие. Люди влюблены в это здание как в произведение искусства, так что теперь его невозможно изменить, и в этом заключается неразрешимое противоречие любой конструктивистской архитектуры, будь то здание Наркомфина или такая старая финансовая и капиталистическая институция, как лондонское здание Ллойда.
Архитектура представляет собой настолько капиталоёмкий вид искусства, что подлинная коммунистическая конструктивистская архитектура при всем желании сейчас невозможна. Очевидно, что к авангарду можно отсылать и иначе – например, в сфере искусства, где на это требуется меньше ресурсов и денег. Но там возникает другой вопрос: станет ли такое произведение китчем? Группа «Что делать?» — показательный пример. Их работа представляет собой сознательную попытку продолжить проект, закончившийся в 1932 году с насильственным образованием советских художественных ассоциаций. Те аспекты их работы, которые отсылают к традиции 1920-х, представляются мне наиболее китчевыми. Я одобряю интерес к истории, если люди читают об определенных исторических событиях и пытаются в них разобраться, но я все меньше уверен в том, что подобные художественные проекты могут оказаться для нас полезными или поучительными. По этой причине я склонен считать сознательные попытки продолжения проектов, оставшихся глубоко в прошлом, достаточно глупыми.
Как вы объясните «остальгию» западных специалистов по советской архитектуре послевоенного времени? Хотя вы говорите, что это наименее интересный для них период, на этой конференции собралось много западных историков, которые занимаются именно послевоенными проектами.
Нет, нет, нет. Я имел в виду, что это было неинтересным тогда, когда все это строилось. В британских журналах по архитектуре, выходивших в период с 1954 по 1991 годы, не было ни малейшего интереса к советской архитектуре того периода. Никто не интересовался тем, что происходило в СССР. Единственный большой материал, вышедший в те годы в Британии, касался бумажной архитектуры Бродского и Уткина 1980-х. Это все. Кто-то был в курсе проектов микрорайонов и индустриального строительства, в курсе крупномасштабного проекта индустриального домостроения. Но на Западе были такие же проекты, пусть и менее масштабные, поэтому какое им было дело до Советского Союза? Есть, конечно, некоторые исключения: одна книга на немецком и один выпуск журнала L’Architecture d’Aujourdhui. Но это ничто по сравнению с огромным интересом Запада к советской архитектуре 1920-х и 1930-х.
Недавнее открытие послевоенной архитектуры случилось в области фотографии прежде, чем в архитектурной критике. Люди путешествовали по Восточной Европе по своим делам и натыкались на такие необычные здания, как Российская Академия наук, здание Министерства автомобильных дорог Грузинской ССР в Тбилиси и Киевский крематорий. Источником интереса были вовсе не архитектурные круги, там этот интерес сформируется позднее. Большинство людей, профессионально занимающихся такой архитектурой, собралось на конференции в Гараже. Такие люди, как Элке Бейер и Георг Шолхаммер, занимаются научными исследованиями, стараясь понять идеи, стоящие за этими зданиями. Но большая часть опубликованного на английском, немецком и французском языках — это фотографии, а не история архитектуры: книга «Советские остановки» (Soviet Bus Stops) Кристофера Хервига, «Социалистический модернизм» (Socialist Modernism) Романа Безьяка и, конечно, большая книга Фредерика Шобена «СССР: Сфотографированные Космические Коммунистические Конструкции» (CCCP: Cosmic Communist Constructions Photographed). Они способствуют чрезвычайной эстетизации архитектуры, что, в принципе, свойственно фотоальбомам. Научная ценность этих изданий заключается лишь в том, что они приглашают какого-нибудь специалиста вроде Жана-Луи Коэна написать вводную статью и уже пост-фактум объяснить, что запечатлено на фотографиях.
В своей книге «Ланшафты коммунизма» я хотел сделать нечто совершенно иное. Я следовал следующему правилу: никаких руин, только то, что существует и функционирует сегодня. Я очень старался избежать чего-то вроде: «Вау! Классные советские развалины! Эра космических полетов! Космос!». Не знаю, насколько это удалось, но факт остается фактом: фотографы узнали об этом раньше архитектурных критиков, потому что эти вещи были неизвестны научной среде (за исключением советских книг). Западный учебник по советской архитектуре XX века мельком упоминает проспект Калинина, здание секретариата Совета Экономической Взаимопомощи или микрорайоны как символы того, что Советы вновь стали модернистскими. Вообще все, что происходило в период после строительства МГУ (это здание воспринималось c зачарованным ужасом, как пугающий «Другой» западных небоскребов, например, к Сигрем-билдингу) и вплоть до бумажной архитектуры 80-х, абсолютно неизвестно на Западе. Неосвоенность этой территории привела к ее ориентализации западными исследователями. Также, несмотря на некоторые сходства с западными аналогами, для советского модернизма 1960-80 гг. нередко характерен орнаментализм, пропагандистский характер и элементы народного творчества. Это делает его в достаточной степени необычным для того, чтобы быть воспринятым в качестве «Другого».
Я думаю, что интерес к советскому модернизму, который включает в себя и 20-е, тесно связан с интересом к социальной демократии. Оба тренда относятся к чему-то, что когда-то было мейнстримом, а сегодня считается невозможным. Это следствие чувства, свойственного многим людям, которым сегодня меньше 40 (я хотел бы подчеркнуть, что речь идет именно о поколении): после 79-го и тем более после 89-го года что-то пошло совсем не так, мы утратили нечто очень важное. Отсюда видно, что критика социально-демократического — и зачастую советского — городского планирования была довольно глупой. В 70-х и 80-х западные писатели смотрели на социальную демократию как на тоталитаризм –. будто бы предоставление миллионам людей водопровода, центрального отопления и домов, в которых не протекает крыша – предоставление всего этого людям, а не свободному рынку – было сталинистским актом. Причем эта критика исходила от людей, которые больше всего выиграли от социальной демократии. Представители поколения 1960-х, обеспеченное бесплатным образованием, работой в условиях полной занятости, растущим качеством жизни, культурой планирования и прогресса, решили, что это все вещи скучные и патерналистские. Для них эти вещи были нормой, поэтому они и не казались им ни интересными, ни ценными. Людей, родившихся в конце 70-х и позднее, беспокоит тот факт, что у предыдущего поколения были все те блага, которых нет у них (или у нас), и от которых предыдущее поколение отказалось в угоду собственной инфантильности. Я думаю, что интерес к советской оттепели и эпохе застоя – периодам, в значительной степени отличающимся от западных социальных демократий, но в то же время имеющим с ними много общего – объясняется тем, что они были искаженной моделью Запада. Иногда это дает возможность [исследователям — А.Ш.] говорить о социальной демократии как о чем-то экзотическом.
Как вы думаете, может ли интерес к советской архитектуре объясняться тем, что она была более радикальной (в силу тех возможностей, которыми обладала архитектура в системе плановой экономики), чем ее западный аналог?
Вполне. Разница заключается исключительно в масштабе происходящего, но я не уверен в существовании разницы на уровне содержания. В Восточной Европе (кроме Восточной Германии, Чехословакии и некоторых небольших территорий вроде Силезии) индустриализация происходила в 1950-x, 60-х и 70-х. Это эпоха полномасштабной урбанизации Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии и стран Балтии, этим объясняются масштабы тамошней трансформации. Мне эта точка зрения представляется более обоснованной, чем все остальные. В качестве примера можно взять книгу Шобена «CCCP: Cosmic Communist Constructions Photographed». Анализ, проделанный автором, не укладывается в следующую схему: «Вот такой была советская экономика, а вот таким был результат x и y…». Фактически он предполагает, что архитектура того периода была настолько странной и необычной в силу зарождающегося национализма (ведь большинство интересных сооружений того времени были построены в отдаленных республиках, а не на территории сегодняшней России), что якобы свидетельствует о наличии сил, которые в дальнейшем должны были принести им независимость. Таково рассуждение Шобена, но я думаю, что это полная чушь. Тому нет ни единого подтверждения. Ведь если вы посмотрите на то, что происходит с архитектурой в этих странах после обретения независимости, то увидите, что в Латвии, Грузии и Казахстане архитектурная культура, характерная для периода с 50-х по 80-е годы, протянула не дольше, чем в Киеве или Петербурге. Если что-то из этих тенденций и выжило, так это постмодернизм, признаки которого можно обнаружить в зданиях 80-х вроде Белого дома в Москве. Это повлияло на возвращение монументального неоклассицизма, преобладавшего в Москве в 90-е и 2000-е. Он был особенно ужасен. Не уверен, что его архитекторы в свое время считали, что создают нечто радикальное и, тем более, националистическое.
Когда я писал о советской архитектуре, то старался говорить о том, как она возникала за счет тех отличительных особенностей советской системы – не обязательно за счет ее радикализма, если не говорить о масштабе, связанном с национализацией земли. Ключевым моментом стала индустриализация XX века. И в этом смысле страны, с которыми стоит сравнивать, скажем, Болгарию и Грузию — это Греция, Турция и Португалия. Здесь урбанизация происходила в соизмеримых масштабах и в тот же исторический период. Существенное различие состоит в том, что в этих регионах не появилось микрорайонов, хорошо спроектированных городских видов и архитектурных ансамблей. После урбанизации и индустриализации 60-х в городах Греции сохраняется традиционная планировка улиц, однако те здания, которые возводятся, оказываются слишком высокими, а застройка слишком плотной, потому что это строительство, основанное на спекуляциях застройщиков, а не на централизованном планировании. Интересно было бы сравнить Грецию и Болгарию – в этом куда больше смысла, чем в сравнении СССР с Францией. Или сравнить СССР и Латинскую Америку, когда можно отталкиваться от схожих проблем – таких, как урбанизация и периферийность. Дело в том, что в России никогда не было трущоб или бараков. Конечно, они какое-то время существовали в СССР и в зоне его влияния, некоторые существуют и до сих пор, но они не превратились в определяющй тип поселений, как это произошло в Латинской Америке. Если сравнивать микрорайон с фавелами [трущобами, расположенными на склонах гор — А.Ш.], то микрорайон только выигрывает от этого сравнения. Лишь идиоты могут говорить, что трущобы превосходят микрорайоны с точки зрения урбанизации. Другой вопрос, насколько эти микрорайоны лучше греческого или турецкого жилья, построенного в то же время на основе финансовых спекуляций.
Такие исследователи, как Гжегож Пёнтек, Куба Снопека и вы сами (я имею в виду, например, вашу недавнюю публикацию в Guardian) изучают микрорайоны – Новые Черемушки, Беляево и Чертаново. Не кажется ли вам, что романтизация этих районов отдает ориентализмом и колониальностью, потому что как исследователю вам не доступна реальная жизнь этих сообществ, но только стоящие над ней градостроительные планы или архитектурные идеи?
Не знаю, кто и что здесь романтизирует. Я не знаю, откуда Куба, но Гжегож из Варшавы, и если он хочет писать о микрорайонах, то их там предостаточно. Куба решил писать о Беляеве в Москве, а не об аналогичных проектах, осуществленных в Варшаве в тот же период, в том же масштабе и согласно тем же системам, потому что в Беляеве жили все эти классные художники: Булатов, Гройс и т. д. Из его исследования становится ясно, что настоящий хипстерский культурный кластер был советским микрорайоном массовой застройки. Понятное дело, что он лукавит, потому что в реальности типичное место — это не Беляево со всеми его крутыми жителями. Типичным местом будет эквивалент Беляева на окраинах Екатеринбурга или Перми, потому что по-настоящему типичное место не находится в пятнадцати минутах езды от центра Москвы на метро. Гжегож и его коллега Ярослав Трибус писали о районе Урсынов в Варшаве, который примерно того же размера, что и Беляево. Не думаю, что он смотрел на него глазами иностранца, представляя его чем-то экзотичным, потому что большая часть Варшавы состоит из микрорайонов. Учитывая мое британское происхождение, в моем случае это более проблематично. В Британии подобные окраины, застроенные панельными домами, встречаются гораздо реже в силу незапланированного развития британских городов. Они очень редко подходят под это описание. Высотки в центральной части города куда более распространены. В то же время во Франции множество микрорайонов. Микрорайон – это фактически французское изобретение. Советская версия парижских окраин вроде Сарселя была импортирована при Хрущеве. Но даже в случае Британии высотное социальное жилье не является такой уж редкостью. Главное отличие заключается опять-таки в масштабе. Что касается другой части вашего вопроса, то я пишу архитектурную историю, а не социологию. Меня интересует, как и почему появились эти места, а не как они работают. Может быть, в изучении городского планирования и есть ориентализм, но я так не думаю.
Отношение к микрорайону как к уникальному советскому феномену проблематично, поскольку микрорайон – это нечто наименее советское во всей советской архитектуре. Сталинская архитектура действительно ни на что не похожа. Карл-Маркс-аллея в Берлине, Нова Хута в Польше, Острава-Поруба в Чехословакии или Соцгород в Запорожье уникальны. Сталинский барочный стиль, возможно, наследует изящной архитектуре империализма XIX века, Beaux-Arts, которая была популярна на 50 лет раньше, однако использование сталинского стиля в постройках для рабочего класса не имело аналогий или эквивалентов. Что касается микрорайонов, то миллионы людей по всему миру за пределами бывшего СССР и стран социалистического лагеря живут в подобных местах. В СССР и государствах-сателлитах их было чуть больше, потому что они служили целям первичной урбанизации, в отличие от Франции или Нидерландов, где микрорайоны были средством реконструкции и предоставления нового жилья после войны.
В своей лекции вы упоминаете «новый эмпиризм» — стиль, испытавший влияние рациональности Ле Корбюзье, но в то же время заигрывающий с квази-историчной имитацией английского экстерьера. В российском контексте некоторые историки используют понятие «постконструктивизм» как некую «оперативную» категорию для того, чтобы разрушить гомогенный образ Сталинской архитектуры (указывая, в частности, на то, что конструктивистский метод имел место даже в 1930-х). Можете ли вы сказать, что эти термины чем-то схожи?
Нет, не совсем. Постконструктивизм — это ретроспективный термин, указывающий на то, что конструктивистский дизайн стал тяжелым и классическим, в то время как «новый эмпиризм» был светлым и оптимистичным и использовался иным образом. Да и орнамент в нем не всегда был классическим. Поскольку оба стиля представляют собой формы модернизма, обогащенные декоративными деталями, они могут казаться похожими. Тем не менее, мало что объединяет, например, Харлоу Нью Таун (Harlow New Town) или Королевский фестивальный зал (the Royal Festival Hall), детали которых являются способом претенциозной идентификации, с поздними сооружениями братьев Весниных, которые отсылают и указывают на растущую монументальность и вес конструктивистского дизайна. Конечно, и те, и другие здания – это примеры отступления от чистого, настоящего модернизма, но на этом, думается, их общие черты заканчивается.
У меня есть вопрос об этике сохранения архитектуры. Многие авангардные здания в СССР были построены во времена нехватки материалов, к тому же многие из них не реставрировались должным образом на протяжении многих лет. Люди, все еще проживающие в этих шедеврах архитектуры (и не воспринимающие их в качестве таковых) ждут их скорейшего сноса, чтобы получить новые комфортабельные квартиры. Они не скрывают своего враждебного отношения к интеллектуалам, защищающим эти дома – так было во время отстаивания Стройбюро в Королеве. В этом случае благородная идея консервации памятников фактически противоречат той идее, которая стоит за этими зданиями.
Вероятно, сегодня наименее привлекательным аспектом модернизма представляется вера в устаревание и соответствующее постоянное изменение архитектурной среды, которое кажется невероятно расточительным с точки зрения ресурсов и, вместе с тем, прибыльным для застройщиков. На этом уровне рассуждения тот факт, что сохранение модернистских зданий вступает в противоречие с изначальным архитектурными задумками, меня не беспокоит. Сохранение определенно противоречит этим идеям, но архитекторы мертвы, они не могут ничего возразить. К тому же большинство модернистских зданий на Западе так или иначе построены в соответствии с более высокими стандартами, чем современное спекулятивное жилье, а часто и лучше сделаны. Жалобы на то, что люди хотят покинуть знаковые модернистские постройки, которые нравятся только эстетам, с тем, чтобы переселиться в новое хорошее жилье, бывают довольно сомнительны. В случае с Садами Робина Гуда (Robin Hood Gardens) в Лондоне опрос жителей доказал обратное. Однако группы, занятые сохранением архитектурного наследия, зачастую не заинтересованы в общении с жителями своих любимых домов, а в некоторых случаях они даже способствуют выселению жителей. Выселение людей из модернистских районов города с целью освобождения места под новые застройки для богатых — это большая проблема в Великобритании, и кампании по сохранению этих мест в качестве социального жилья (например, таких скучных системных объектов, как Эйлсбери или Carpenters Estate в Лондоне) сейгодня часто пересекаются с архитектурными кампаниями. Академики из университетских колледжей и общественные активисты работали вместе против уничтожения и расселения Эйлсбери.
Вопрос, который вы поднимаете, звучит несколько иначе в российском контексте, потому что советские здания, особенно здания 1920-х, были очень плохо построены. Я подозреваю, что существует некоторая возможность минимального ремонта зданий, пока люди в нем живут, хотя если им действительно могут предложить приличное жилье за те же деньги (в чем я сомневаюсь), то не стоит видеть в этом проблему.
Интервью: Андрей Шенталь
]]>