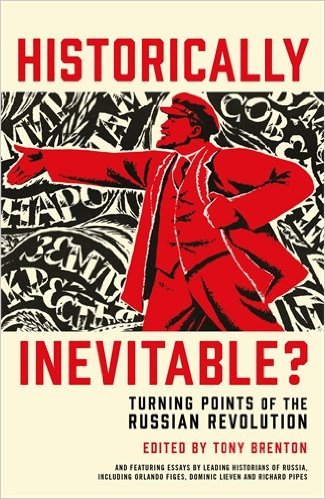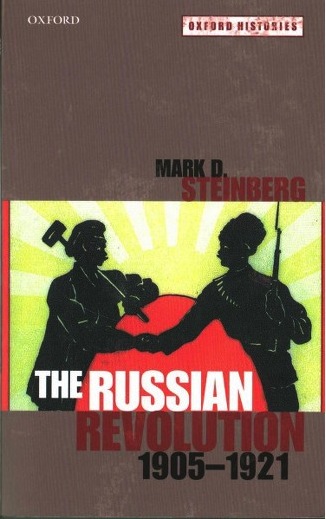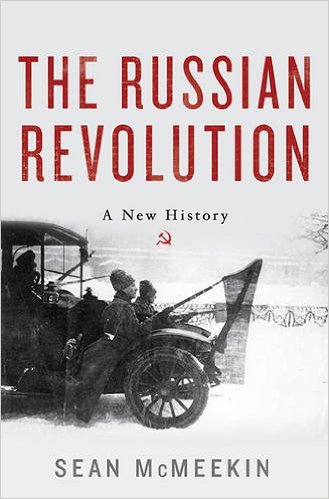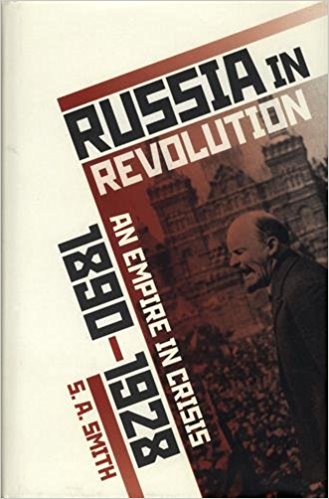October: The Story of the Russian Revolution by China Miéville
The Russian Revolution 1905-1921 by Mark D. Steinberg
Russia in Revolution: An Empire in Crisis, 1890 to 1928 by S.A. Smith
The Russian Revolution: A New History by Sean McMeekin
Historically Inevitable? Turning Points of the Russian Revolution by Tony Brenton
Для Эрика Хобсбаума Русская революция — которая случилась в год его рождения — была центральным событием ХХ века. Ее фактическое влияние на мир «было куда более глубоким и масштабным», чем эффект Великой французской революции столетием раньше, ведь «через какие-то тридцать-сорок лет после прибытия Ленина на Финляндский вокзал Петрограда целая треть человечества обнаружила, что живет при режимах, прямо происходящих от [революции]… и ленинской модели организации — Коммунистической партии». До 1991 эта точка зрения была распространена даже среди историков, которые, в отличие от Хобсбаума, не были ни марксистами, ни коммунистами. Но, заканчивая свою книгу в начале 1990-х, Хобсбаум добавил оговорку: век, историю которого он писал, был «короткий ХХ век», он начался в 1914 и кончился в 1991, и мир, который определила Русская революция, был «миром, который разлетелся на куски к концу 1980-х», утраченным миром, на смену которому приходил неопределенно очерченный мир после ХХ столетия. Двадцать лет назад Хобсбауму было неясно, какое место займет Русская революция в этом новом мире, — и это все еще неясно сегодняшним историкам. Та «треть человечества», что жила при вдохновленных СССР системах до 1989-91 годов, существенно сократилась. К 2017 году, столетию революции, число коммунистических государств в мире можно сосчитать по пальцам, при том, что статус Китая не определён, и лишь Северная Корея придерживается старых убеждений.
Нет ничего неудачнее неудачи — и для историка, который обращается к столетию революции, крушение Советского Союза создало большое облако пыли. Книги о революции издаются огромным потоком, но лишь в некоторых из них выдвигаются сильные утверждения о том, что ее действие все еще продолжается, большая же часть этих работ исходит из признания ее неудачи. Представляя новый консенсус, Тони Брентон называет революцию одним из великих «тупиков истории, вроде империи инков». Более того, революция, лишенная былого марксистского величия исторической необходимости, начинает выглядеть как более или менее случайный эпизод. Рабочих—помните, было время, когда люди страстно спорили была ли это рабочая революция? – вытеснили со сцены женщины и народности окраин империи. Социализм до такой степени превратился в мираж, что кажется более гуманным вообще его не упоминать. Если из Русской революции и можно извлечь урок, то весьма неутешительный — что революции обычно только ухудшают дело, особенно в России, где революция привела к сталинизму.
Хотя мои работы во многом также включены в этот консенсус, он пробуждает во мне дух противоречия. В книге «Русская революция», которая впервые была опубликована в 1982 году и будет переиздана в дополненном виде в этом году, я довольно прохладно обходилась с идеей рабочей революции и исторической необходимости, и пыталась занять позицию над схваткой (напоминаю, я писала эту книгу в период Холодной войны, когда схватка, над которой следовало занимать позицию, все еще продолжалась). Поэтому мне обычно не свойственно выступать в роли революционного энтузиаста. Но кто-то же должен это делать?
Этот человек, как выясняется, — Чайна Мьевиль, больше известный как симпатизирующий левым сочинитель научной фантастики, который сам же описывает свою прозу как «странную». Мьевиль не историк, но он неплохо подготовился, и его «Октябрь» вовсе не странен, а элегантно сконструирован и неожиданно трогателен. Он поставил цель написать увлекательную историю 1917 года для тех, кто симпатизирует революции вообще и большевистской революции в частности, и ему это удалось. Если быть точным, Мьевиль, как и все остальные, согласен с тем, что все кончилось плохо, поскольку, учитывая провал революции в большинстве стран и преждевременность революции в России, историческим результатом революции был «cталинизм: полицейское государство, основанное на паранойе, жестокости, убийствах и китче». Но он не отвернулся от революций, хотя его надежды выражаются в крайне ограниченной форме. «Нужно отмечать первую в мире социалистическую революцию, — пишет он, поскольку — раз вещи изменились однажды, значит, могут измениться вновь» (скромное утверждение, не так ли?). «Тусклый свет свободы» светил недолго, «и то, что могло стать рассветом, [оказалось] закатом». Но могло выйти и по-другому, и «если фразы остались неоконченными, то закончить их — наша задача».
Марк Стейнберг — единственный из пишущих о революции профессиональных историков, который демонстрирует к ней хоть какую-то эмоциональную привязанность. Конечно, революционный идеализм и отважные прыжки в неизвестность частенько кончаются жестким приземлением, но, как пишет Стейнберг, «Осознавать это довольно грустно. Отсюда мое восхищение теми, кто пытается осуществлять эти прыжки несмотря ни на что». Но даже Стейнберг, чье недавнее исследование «живого опыта 1917 года основано главным образом на массовой прессе того времени и свидетельствах очевидцев», по большей части отказался от прежнего интереса к рабочим в пользу других «социальных пространств»: женщин, крестьян, империи и «уличной политики».
Чтобы понять текущий консенсус вокруг исследований Русской революции, нам нужно вернуться к некоторым старым дискуссиям, в частности к дискуссии о неизбежности этого события. Стейнберг не считает это проблемой, поскольку его современный «взгляд снизу» гарантирует, что история будет полна сюрпризов. Но другие авторы слишком уж рвутся рассказать нам, что то, как обернулись события, не было предрешено, и что все могло пойти совсем иначе. «Ни падение царской автократии, ни падение Временного правительства не были предопределены», — пишет Стивен Смит в своей трезвой, хорошо подготовленной и логичной истории. Шон МакМикин вторит ему, подтверждая, что «события 1917 года были полны сослагательных наклонений и упущенных возможностей», в то же время указывая на своего интеллектуального врага: эти события «далеко не были эсхатологической “классовой борьбой,” порожденной неизбежностью марксистской диалектики». Иными словами, все марксисты, западные и советские, ошибались.
«Исторически неизбежно?» (Historically Inevitable?) — сборник текстов, авторы которых обращаются к проблеме неотвратимости революционных событий, ставя ряд вопросов «что, если?» по отношению к ключевым моментам революции. Тони Брентон спрашивает в предисловии: «Могли ли события пойти по-другому? Были ли моменты, когда одно-единственное решение, принятое иначе, случай, выстрел, который попал бы в цель, а не мимо цели… могли бы изменить ход русской, европейской и мировой истории?» Но большинство авторов этого сборника, конечно, согласилось бы с Домиником Ливеном — как он пишет, «нет ничего фатальнее, чем вера в неизбежность хода истории». Если точней, эти авторы считают, что случайность играла большую роль в Февральской и Октябрьской революциях, чем на пути к террору и диктатуре после Октября. Орландо Файджес, автор популярной книги об истории революции «Народная трагедия» The People’s Tragedy (1996), посвятил свое живое эссе обоснованию того, что, если бы замаскированный Ленин не попал бы на Съезд Советов 24 октября, «история повернулась бы иначе».
В ход идут разные политически заряженные аргументы о советской истории. Во-первых, ставится вопрос о неизбежности падения старого режима и успеха большевиков. Это старый предмет советской веры, который в прошлом горячо обсуждался западными историками, в особенности русскими эмигрантами, считавшими, что царский режим находился на пути к модернизации и либерализации, который прервала Первая мировая война, погрузившая страну в хаос и сделавшая возможной невероятную прежде победу большевиков. (Ливен, автор одного из самых глубоких эссе в книге, характеризует такую интерпретацию положения России в 1914 году как «мышление, которое выдает желаемое за действительное». В контексте прежних советологических дебатов о революции вопрос о неизбежности был связан с марксистским просоветским подходом, поскольку по умолчанию подразумевалось, что советский режим был «легитимным». Идея случайности, напротив, была антимарксистской позицией, если говорить в терминах Холодной войны. Исключением, как ни странно, стало отношение к сталинистскому тоталитарному повороту, который, согласно расхожей мудрости, был неизбежен, в отличие от революционной ситуации, его породившей. Файджес придерживается того же взгляда: в то время, как большую роль в 1917 году сыграла случайность, «от Октябрьского восстания и установления большевистской диктатуры до красного террора и Гражданской войны со всеми ее последствиями для эволюции советского режима пролегает прямая исторической неизбежности».
В своем выпаде против всего «сослагательного» жанра истории Ричард Дж. Эванс предположил, что «на практике… все эти “если бы да кабы” обычно были по большей части монополией правых» и были нацелены против марксизма. Это не обязательно относится к сборнику Брентона, хотя в него и включены тексты правых историков вроде Ричарда Пайпса и совершенно не представлены крупные американские социальные историки, изучающие 1917 год, которые были оппонентами Пайпса в отчаянных историографических баталиях 1970-х. Сам Брентон — бывший дипломат, и последнее предложение сборника «Исторически незбежно?» — «И именно многочисленным жертвам [революции] мы должны задать вопрос о том, можно ли было пойти другим путем» — довольно прозрачно намекает на намерение дипломата решать проблемы в реальном мире, а не анализировать их по методам профессиональных историков.
Пайпс, который в начале 1980-х, при Рейгане, служил советским экспертом в Совете Национальной Безопасности, в 1990 году написал книгу о революции, в которой особенно сильный упор делался на общей нелегитимности прихода большевиков к власти. Его аргументация была направлена не только против Советов, но и против американских ревизионистов, а именно против группы молодых ученых, в основном социальных историков, особенно интересующихся историей трудовых отношений, которые с 1970-х противостояли взгляду на Октябрьскую Революцию как на переворот и утверждали, что в решающие месяцы 1917 года, с июня по октябрь, большевики пользовались все возрастающей поддержкой рабочего класса. Исследования ревизионистов были подкреплены основательной доказательной базой, как правило, материалами советских архивов, к которым они получили доступ благодаря англо- и американо-советскому студенческому обмену. Их работа пользовалась уважением исторического сообщества. Но Пайпс смотрел на них как на марионеток Советского Союза, и был так предубежден против их исследований, что вразрез с академическими конвенциями отказался даже признать их существование в своей библиографии.
Российский рабочий класс был объектом пристального интереса историков в 1970-е. Это происходило не только потому, что социальная история была тогда в моде, а история трудовых отношений была ее популярным подразделом, но и из-за политических причин: действительно ли партия большевиков пользовалась поддержкой рабочего класса и захватила власть, как утверждалось, от имени пролетариата? Большая часть западных ревизионистских исследований, которые презирал Пайпс, фокусировалась на сознании рабочего класса и вопросе о том, было ли оно революционным. И некоторые историки этого направления, хотя не все, были марксистами. (Находясь в немарксистком лагере, я раздражала других ревизионистов тем, что игнорировала классовое сознание и писала о вертикальной мобильности).
Все авторы книг, вышедших к столетию революции, имеют собственные истории подобного рода. Первая работа Смита «Красный Петроград» (1983) вписывалась в раздел истории трудовых отношений, однако ее автор находился на некотором отдалении от американских дебатов, поскольку был из Британии, а его работы всегда были слишком осторожными и рассудительными, чтобы вызывать подозрения в политической предвзятости. Позже он написал прекрасный и недооцененный труд «Революция и народ в России и Китае: сравнительная история» (2008), в центре которого по-прежнему были рабочие и рабочие движения. Стейнберг, американский ученый следующего поколения, опубликовал свою первую книгу о сознании рабочего класса, «Воображение пролетариата», в 2002, когда в социальной истории уже случился «культурный поворот» и больше внимания уделялось проблемам субъективности и меньше — «сухим» социо-экономическим данным. Это был последний привет рабочему классу в книгах о Русской революции. Пайпс отверг его полностью, поскольку полагал, что революция может быть объяснена только в политических терминах. Файджес в авторитетной книге «Народная трагедия» писал скорее об обществе, чем о политике, при этом он минимизировал роль «сознательных» рабочих, вместо этого сделав упор на люмпен-пролетариате, бушующем на улицах и уничтожающем материальные ценности. Смит и Стейнберг в своих новых работах довольно скупо говорят о рабочих, хотя при этом в поле их зрения вошла уличная преступность.
МакМикин, самый молодой из обсуждаемых авторов, вознамерился написать «новую историю», которая по его мнению должна быть историей антимарксистской. Он пошел по следам Пайпса, но совершил при этом собственный пируэт и полностью проигнорировал в обширной библиографии работ «на которые он ссылается или которыми активно пользуется», все исследования социальной истории, кроме того, что написал Файджес. Библиография включает ранние книги Смита и Стенберга, а также мою «Русскую революцию» (хотя и цитирует ее на стр. xii как «марксистскую, просоветскую работу). Можно, конечно, сказать, что МакМикину не нужно читать исследования по социальной истории, поскольку его в «Русской революции», как и в более ранних работах, интересуют политические, дипломатические, военные и международно-экономические аспекты. Он основывается на международной архивной базе источников, и его книга весьма интересна, особенно в деталях, и особенно экономических. Но есть душок правого безумия в его идее о том, что «максималистский социализм марксистского толка» является реальной угрозой в западных странах. Не то, чтобы он прямо называл всю революцию, от пломбированного вагона с Лениным в апреле 1917 до Рапалльского договора в 1922, немецким заговором, но именно к этому более-менее сводится его повествование.
Конечные точки, которые исследователи выбрали для своих историй, немало говорят о том, чем же для них на самом деле является Революция. Рапалло, в данном случае, весьма подходящая концовка для МакМикина. Для Мьевиля это Октябрь 1917 года (триумф революции), для Стейнберга — 1921 год (не столько победа в Гражданской войне, как можно было бы ожидать, сколько открытая концовка неоконченной революционной истории), а для Смита — 1928 год. Последний вариант — странный выбор в плане драматургии повествования, поскольку означает, что книга Смита завершается двумя главами о 1920-х, когда итоги революции были под вопросом в период НЭПа, а отказ от максималистских целей периода Гражданской войны был вызван риском экономического коллапса. Действительно, нечто, подобное НЭПу могло стать результатом Русской революции, но этого не произошло, поскольку появился Сталин. И хотя две главы о НЭПе, как и остальная книга, весьма вдумчивы и основательны, как финал это больше напоминает нытье, чем фанфары.
Это подводит нас к другому часто обсуждаемому вопросу Советской истории: существовала ли принципиальная преемственность между Русской/Ленинской революцией и Сталиным, или между ними — разрыв, произошедший около 1928 года. Моя «Русская революция» включает сталинскую «революцию сверху» ранних 1930-х, так же, как и его большие чистки в конце десятилетия, но это неприемлемо для многих антисталинистски настроенных марксистов. (Неудивительно, что аннотированная библиография Мьевиля находит мое исследование «полезным… хотя и неубедительно привязанным к “неизбежной” перспективе, ведущей от Ленина к Сталину»). Когорта социальных историков 1917 года, к которой принадлежал Смит, по большей части разделяла чувства Мьевиля, отчасти потому, что им было важно защитить революцию от тени сталинизма. Но в своей книге Смит не хочет занимать категоричную позицию по этому и другим вопросам. Он указывает, что Сталин, конечно, считал себя ленинистом, но, с другой стороны, проживи Ленин подольше, он не был бы так чудовищно жесток. Сталинский «великий рывок» 1928-1931 «вполне заслужил название “революция”, поскольку он изменил экономику, социальные отношения и культурные паттерны поведения в большей степени, чем Октябрьская революция», и более того, продемонстрировал, что «революционные энергии» еще не истощились. Но все же, с точки зрения Смита это был эпилог, а не составная часть Русской революции. Беспристрастность — отличительная черта крепкой и авторитетной книги Смита, и мне нелегко было сознательно не отдать должное многим ее достоинствам. На самом деле, ее единственная проблема — как и многих других работ, опубликованных в юбилейный год — заключается в том, что совершенно неясно, что, помимо заказа издателя, заставило автора ее написать. Смит сам дал определение этой проблеме на одном симпозиуме о Русской революции: «Наши времена не особенно благосклонны к идее революции… Я бы сказал, что, хотя наше знания о Русской революции и Гражданской войне существенно продвинулись, в основных моментах наша способность понимать чаяния 1917 года – и, конечно, сочувствовать им — сильно уменьшилась». Другие участники этого симпозиума были так же пессимистичны, а российский историк Борис Колоницкий заметил, что, хотя выяснение правды о Русской революции было невероятно важно для него в 1970-е годы в Ленинграде, сейчас интерес к теме «резко упал». «Иногда я думаю: кому есть дело до Русской революции?», — грустно вопрошает Стенберг, а Смит пишет на первой странице своей «России в революции», что «вызов, брошенный большевиками в октябре 1917 года, все еще отзывается эхом, хотя и слабым».
***
Если говорить в чисто исследовательских категориях, революция 1917 года не вызывала бурных споров уже несколько десятилетий, после того, как улеглись возбужденные дискуссии 1970-х, подстегиваемые Холодной войной. Дни, когда позднеимперскую эпоху можно было называть «предреволюционной», то есть интересной только в той мере, в которой она вела к революционным событиям, давно прошли. Все начало меняться в 1980-е и 1990-е, когда социальные и культурные исследования России сосредоточились на предметах, которые не обязательно вели к революции — от преступности и популярной литературы до церкви. С падением СССР в 1991 году революция как исторический сюжет окончательно съежилась, уступив место Первой мировой войне, значение которой для России (в отличие от ее других участников) было недостаточно исследовано. Опять же, падение СССР и отделение республик вывело на передний план вопрос об империи и ее границах (отсюда подзаголовок книги Смита, «Империя в кризисе» и глава Стейнберга «Преодолевая империю».
В 1960-х Эдварду. Х. Карру, а также его оппонентам, в частности Леонарду Шапиро, было ясно, что Русская революция имеет значение. Она имела значение для Шапиро, потому что она привела к установлению в России новой политической тирании и угрожала свободному миру, а для Карра — потому что она впервые породила централизованную, планируемую государством экономику, в будущее которой он верил. Начав заниматься этим предметом в 1970-е, я пришла к выводу, что наряду со многими «предательствами» социалистической революции, на которые указывал Троцкий и многие другие, было и много достижений в области экономической и культурной модернизации, особенно — стремительная финансируемая государством индустриализация 1930-х. Наблюдения Хобсбаума были сходны, хотя и включены в более широкий контекст — так, он замечал, что «советский коммунизм… в основном использовался как программа для преобразования отсталых стран в передовые». Это замечание о модернизации до сих пор кажется мне верным, хотя оно и сильно поблекло, ведь модернизация больше не выглядит современной. Кого сейчас волнует строительство фабрик с трубами, если только не в контексте загрязнения окружающей среды?
В уверенном резюме Брентона заложено торжество сторонника свободного рынка, и хотя его выводы, как «Конец истории» Ф. Фукуямы, могут не выдержать испытания временем, они отражают при этом негативный консенсус, сложившийся вокруг Русской революции: «Она научила нас тому, что она не работает. Трудно смотреть на то, как марксизм так или иначе возвращается. Революция опробовала его в качестве исторической теории, и он потерпел неудачу. Диктатура пролетариата вела не к коммунистической утопии, а только к еще большей диктатуре. Он также провалился в качестве рецепта экономического управления. Ни один серьезный экономист не будет сегодня агитировать за государственную собственность как за путь к процветанию… и не последний по важности урок Русской революции заключается в том, что для большинства экономических задач рынок работает куда лучше, чем государством. Уход в сторону от социализма, начавшийся в 1991 году, был бегством».
Если у Русской революции и были какие-то долгоиграющие достижения, добавляет он, то это, скорее всего, Китай. Смит, хотя и в более осторожных выражениях, делает сходную оценку: «Советский Союз сумел вызвать бурный рост индустриальной промышленности и построить оборонный сектор, но оказался не готов к состязанию с капитализмом, в то время как последний перешел к более интенсивным формам производства и к «потребительскому капитализму». В этом отношении достижения китайских коммунистов по продвижению их страны в ряд ведущих экономических и политических мировых держав были куда более впечатляющими, чем достижения той модели, на которую Китай ориентировался. Действительно, чем дальше в XXI век, тем больше кажется, что именно Китайская революция была величайшей революцией XX века».
Вот вывод, о котором следует задуматься путинской России, все еще не определившейся, что же ей думать о революции и, следовательно, как ее праздновать: бренд «Русской революции» под угрозой. Возможно, к следующему юбилею Россия придумает, как его спасти, потому что патриотический режим должен серьезно относиться к риску потерять главу в мировой истории ХХ века. Западу (учитывая, что на редкость живучее противопоставление «России» и «Запада» сохраняется до сих пор), тоже неплохо бы взглянуть на вещи по-другому. Суждения историков, как бы мы не надеялись на иное, в большой степени отражают настоящее. И большая часть пессимистичных и обесценивающих подходов, снижающих значение Русской революции, просто отражают — как бы выразиться покороче? — воздействие на ее исторический статус распада СССР. Кто знает, что люди будут думать в 2117-м?
Перевод Александры Новоженовой.
]]>