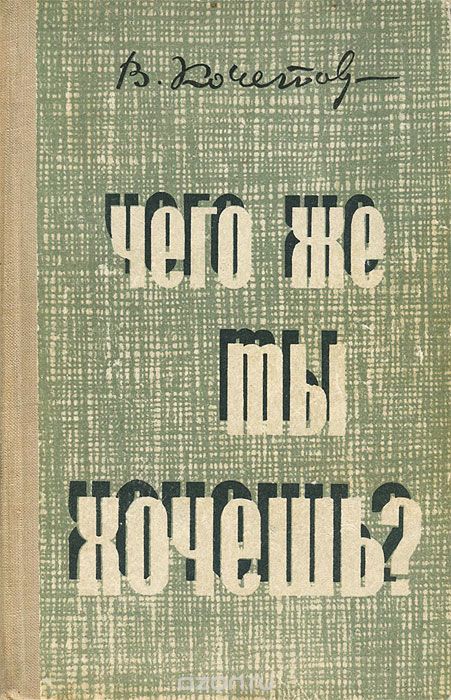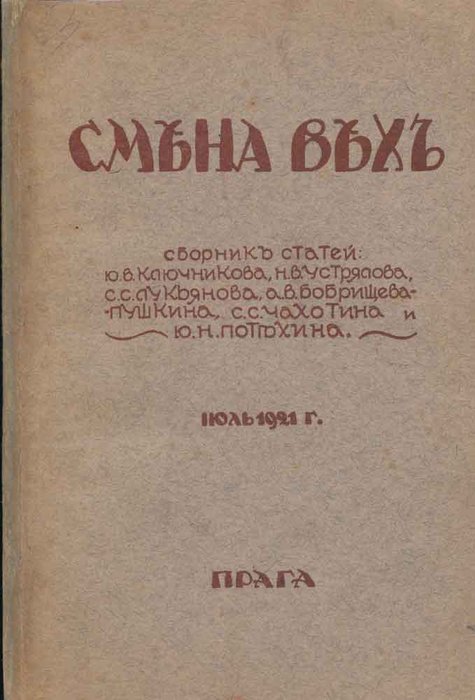Название установочного документа последней, февральской конференции по безопасности в Мюнхене — «Post-Truth, Post-West, Post-Order?». Уже его первые строки задают высокую трагическую ноту: «На Западе и за его пределами антилиберальные силы крепнут». Недвусмысленно отсылая к образам «Коммунистического манифеста», авторы мюнхенского доклада описывают двойную траекторию этого «призрака антилиберализма»: «Изнутри западные общества беспокоит появление популистских движений, которые выступают против критических элементов либерально-демократического статус-кво. Извне западные общества сталкиваются с нелиберальными режимами, которые пытаются поставить под сомнение демократию и ослабить международный порядок».
Название установочного документа последней, февральской конференции по безопасности в Мюнхене — «Post-Truth, Post-West, Post-Order?». Уже его первые строки задают высокую трагическую ноту: «На Западе и за его пределами антилиберальные силы крепнут». Недвусмысленно отсылая к образам «Коммунистического манифеста», авторы мюнхенского доклада описывают двойную траекторию этого «призрака антилиберализма»: «Изнутри западные общества беспокоит появление популистских движений, которые выступают против критических элементов либерально-демократического статус-кво. Извне западные общества сталкиваются с нелиберальными режимами, которые пытаются поставить под сомнение демократию и ослабить международный порядок».
В отличие от марксова призрака – действительного, материального рабочего класса, который стремится к обретению своей идеи, — призрак «антилиберализма» имеет чисто ментальный характер. Триумфальное шествие этого призрака – результат растущего страха, невежества и неуверенности в собственных силах. Это бегство от свободы во всем ее многообразии – ответственности за политический выбор, передвижения рабочей силы, товаров и финансов – в направлении культурного партикуляризма и узости мышления. В выражении этих эмоций стираются различия между правыми и левыми популистами, которые достигают единства в своем отвержении либерального консенсуса, основанного на разуме и равновесии.
В соответствии с этим подходом, внешним союзником внутренних антилиберальных сил выступает, прежде всего, Россия. Разрушая естественные либеральные основания Запада, она утверждает собственное естество – авторитарное тождество единоличного лидера и покорного населения. Вместе со своими сателлитами по «популистскому Интернационалу» Кремль подрывает Западную цивилизацию и мировой порядок. Этот порядок, гарантировавший устойчивый мир и процветание, сменяет новое состояние турбулентности, хаоса, в котором все прежние понятия теряют свой смысл и взаимосвязь. Правда становится пост-правдой, а Запад – пост-Западом.
В этой схеме Путин выступает как «перманентный революционер» в самом примитивном понимании этого термина – он представляет чистую силу разрушения, не предлагая ничего взамен. Можно сказать, что «революционный» образ Путина стал общим местом западных медиа. Так, последний скандальный номер New Yorker объявляет, что именно Путин стоит за «революцией» Трампа в Америке.
Путин наносит удар по демократии: он девальвирует ее основания (либеральные ценности), используя противоречия ее формы. Демократия теряет свое содержание в пользу чистого механизма – выражения воли масс, лишенных ответственности и здравого смысла. Дирижируемое из России восстание против элит носит, прежде всего, культурный и моральный характер, нигилистически отвергая все, что составляет сущность Запада: общность Европейского дома, мультикультурализм и свободу торговли. Единство западного порядка потеряно, а демократия оборачивается своей темной стороной – охлократией, произвольной властью толпы.
Показательно, что в мюнхенском докладе среди потенциальных рисков политической турбулентности отсутствует сама Россия. Здесь, наоборот, господствует предсказуемость – ведь, в отличие от Запада, авторитарная власть в России вполне соответствует национальной идентичности и пользуется органичной поддержкой снизу. Путинская Россия выступает не столько как не-Запад, сколько как анти-Запад, воплощенное отрицание либеральной и гуманистической традиции. В таком качестве Россия теряет национальные границы и превращается в «глобального партизана» (в духе Карла Шмитта) – разрушительный дух времени, подрывающий основы. Сложно не заметить, как манихейская картина противостояния двух начал находит свое зеркальное отражение в легитимации мировой миссии путинской России.
Перевернутая революция
Десять лет назад, на той же мюнхенской конференции по безопасности, Владимир Путин произнес знаменитую речь, в которой он бросил вызов модели «однополярного мира». Этот мир «одного хозяина, одного суверена» представляет угрозу не только для окружающих, но и «для самого суверена, потому что разрушает его изнутри». Такое разрушение имеет моральный характер, так как означает отказ Запада от собственной идентичности ради принуждения других стран к следованию «универсальным» западным ценностям.
Так же, как Запад бросает Путину обвинение в организации «революции» в Америке, сам Путин давно сделал интегральной частью своей идеологической повестки криминализацию революции как явления. Согласно российской пропагандистской линии, любая революция имеет внешний источник. Даже сейчас столетний юбилей событий 1917 года используется официальными медиа, чтобы донести до населения страны простую мысль: все революции щедро финансируются из-за рубежа. В этом русский Октябрь, арабская Весна и украинский Майдан имеют много общего. Насильственная смена власти представляет собой, в первую очередь, опасную технологию, частью которой является токсичное воздействие на массовое сознание. Противостояние между Россией и Америкой проходит, в том числе, по линии сопротивления переменам режима, сеющим ложные надежды и в итоге умножающим хаос и насилие.
Если Россия представляет собой полюс разума и традиции, то западные элиты – революционную силу, которая, подобно якобинцам и большевикам, хочет изменить саму природу человека и заставить его поклоняться новым ложным богам. Такая революционная религия хочет подменить собой «традиционные ценности» и приближается к качеству диктатуры, бескомпромиссного и ослепленного догматизмом насилия меньшинства над большинством, — а значит противоречит демократии, механизм которой состоит ровно в противоположном.
Путин как бы выступает от имени всех, кто не готов жертвовать идентичностью и подлинной свободой ради либеральных химер. Через головы охваченных революционным безумием элит он обращается к туземцу, подлинному «простому человеку», который хочет жить в соответствии с собственной исторической природой. Предсказав «разрушение суверена», Путин помогает Западу спасти самого себя как идентичность.
Таким образом, обе стороны не только изображают друг друга революционными разрушителями порядка (post-Order), но и предъявляют конкурирующие версии «пост-Запада» (post-West): для России и ее правых соратников из «популистского интернационала» Запад теряет свои подлинные основания: христианство, традиционную семью и расовую гомогенность. С точки зрения таких поклонников нынешней России, как Патрик Бьюкенен (американский палеоконсерватор и автор бестселлера «Смерть Запада»), Путин помогает восстановить подлинный Запад, деградировавший в результате подрывной духовной революции культур-марксистов во главе с безумным профессором Маркузе.
Сложно не заметить, как обе картины мира – российская и западная – стремятся к зеркальному отражению друг друга. Каждая из них не только испытывает потребность в именно таком образе противника, но и использует сходные языки для его описания.
Что означает «суверенная демократия»?
Страх перед состоянием «пост-Запада» для официальных представителей России предстает знаком надежды. Так, на последней конференции в Мюнхене российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил: «Надеюсь, мир выберет демократический — пост-западный — мировой порядок, при котором каждая страна определяется своим суверенитетом». Суверенность – одна из ключевых категорий кремлевской философии – понимается расширительно, как природное тождество народного духа и политической власти, не опосредованное навязанными извне ложными универсальными ценностями. Таким образом, суверенность не только не противоречит демократии, но является ее главным условием. Источник власти должен находиться внутри страны, а не за ее пределами – именно это делает демократию «суверенной», наполняя конкретным содержанием абстрактный принцип.
За все 17 лет своей безальтернативной власти Путин и его окружение постоянно настаивали на том, что их режим называется «демократией». Более того — все отличия этого режима от общепризнанных стандартов демократии являются доказательством ее органичного суверенного характера. Пост-западный мир, о котором говорит Лавров, — это мир, в котором суверенным является само право называться «демократией», принципы которой не могут сводиться к общему знаменателю. Но зачем нужно бороться за право называться демократией в пост-западном мире, где каждый суверен уже может выбрать себе любое подходящее имя?
Даже сейчас, через три года после начала военной агрессии в Украине и конфронтации с США и ЕС, российский режим продолжает сохранять внешние демократические ритуалы. Выборы президента, которые должны состояться в марте 2018 года, судя по всему, будут следовать строгому канону российской «имитационной демократии»[ref]Term from Dmitry Furman https://newleftreview.org/II/54/dmitri-furman-imitation-democracies[/ref]: конкурентами Владимира Путина станут неизменные лидеры парламентских партий, а сама процедура должна быть «чистой», т.е. свободной от очевидных фальсификаций и административного давления на избирателей.
На кого ориентирована эта имитация? И почему она так строго воспроизводит свои основные черты, избегая трансформации не только в открытую военно-полицейскую диктатуру, но и в более классический бонапартистский режим, где связь правителя и народа осуществляется при помощи референдумов о доверии? Одна из главных причин – стремление путинской России сохранять то, что ряд авторов называют «standard package» — стандартный набор формальных признаков[ref]https://newleftreview.org/II/94/perry-anderson-incommensurate-russia[/ref], необходимый для символической принадлежности к западному порядку. Желание Путина выглядеть легитимным правителем – президентом, демократически избранным в соответствии с Конституцией – остается неизменным даже сейчас, когда на риторическом уровне Западу брошен вызов. Более того, важное место в этих риторических атаках занимает обвинение в «лицемерии» — фактическом несоответствии декларируемым принципам.
Постоянно повторяя обвинение в двуличности, Россия часто оправдывала свои действия, обращая против Запада его собственные аргументы. Так, аннексия Крыма в 2014-м объяснялась необходимостью предотвращения геноцида русскоязычного населения (точно так же в 1999 году НАТО оправдывала военную поддержку косовских албанцев). Ранее, в 2008 году, этот же аргумент использовался для оправдания действий России в военном конфликте с Грузией и последующего признания независимости сепаратистских режимов в Абхазии и Южной Осетии. В настоящее время российское участие на стороне Асада в сирийской гражданской войне оправдывается в строгом соответствии с риторикой «войны с террором», которую Путин усвоил еще в далекие времена своей дружбы с Джорджем Бушем-младшим.
Тональность российской дипломатии по мере обострения отношений с Западом в последние годы становилась все более ироничной, включая в себя элементы пародии. Действуя в общем смысловом пространстве западного standard package, Россия подчеркивала противоречия между принятым значением его терминологии и их конкретным употреблением. Этот прием создавал юмористический эффект и вызывал раздражение адресата, узнававшего самого себя в кривом зеркале. Такая пародийность до сих пор остается главным и единственным способом манифестации российской суверенности.
Расколотый мир
В своем уже классическом тексте о постмодернизме Фредрик Джеймисон [ref]Fredric Jameson. Postmodernism and Consumer Society http://art.ucsc.edu/sites/default/files/Jameson_Postmodernism_and_Consumer_Society.pdf[/ref] характеризует его как ситуацию потери временного континуума. Модерн нависает как «кошмар» напоминания о потерянном общем языке, отношениях между прошлым, настоящим и будущим. На его место приходит пастиш – лишенная иронии пародия. Язык перестает работать, не оставляя места для ироничной игры. Настоящее наступление «пост-Запада» в таком случае обернется полным провалом постсоветской России и ее «суверенной демократии».
Опережая мрачный прогноз мюнхенского доклада, можно констатировать: единство «Запада» как проекта, связанного с определенными политическими и финансовыми институтами, уже распалось. Неолиберальная политика, Евросоюз и власть его институтов, весь порядок вещей, на защиту которого встает просвещенный разум мюнхенских экспертов, на глазах теряет демократическую легитимацию. Но приходящие на его место «антилиберальные» силы не могут предложить ничего, кроме сохранения прежних отношений новыми методами.
Это действительно состояние «пост»: распад политического языка, в котором Путин и Трамп говорят от имени угнетенных, а авторы Мюнхенского манифеста – от имени свободы и разума. Его единство, утраченный «порядок», не могут быть восстановлены при помощи обращения к идентичности ни в либеральном, ни в антилиберально-пародийном варианте. То, что сегодня по-настоящему объединяет людей по обе стороны иллюзорных границ между Западом и не-Западом – продолжающийся рост неравенства, разрыв между правящими элитами и большинством и отчуждение от политики.
Рисунки Владана Еремича
Первая публикация этого текста на английском
]]>

Сейчас, когда одной из главных тем российского информационного мейнстрима остаются реверансы в сторону Дональда Трампа, говорить об антиамериканизме как о глубоком и устойчивом элементе общественного сознания довольно сложно. Напротив, куда проще признать его временный и управляемый сверху характер. Собственно, такого рода послание новой американской администрации и содержат про-кремлевские медиа: смотрите, как легко мы можем воздействовать на население, — так же быстро, как из вашей страны был создан образ главной внешней угрозы, а из Барака Обамы — монстр и поджигатель войны, мы сможем представить Трампа как друга и ответственного партнера. Самим «хозяевам дискурса» с российского TV такая операция, видимо, представляется чистым делом техники. Однако в реальности успехи нынешней антиамериканской пропаганды никогда не были ее собственной заслугой.
Антиамериканизм в России является не минутной эмоцией, но имеет свою историю и разработанный аппарат понятий и ассоциаций. Восходя к началу Холодной войны, советский антиамериканизм постепенно складывается как динамичное сочетание двух уровней: политического и морального. Если первый определялся противостоянием сверхдержав, то второй обращался борьбе за душу каждого отдельного советского человека. Америка представлялась силой, пробуждавшей ее темные, бессознательные стороны – жадность, необузданную сексуальность, склонность к примитивной культуре, обращенной к низким страстям и желаниям. По мере снижения уровня конфронтации политический антиамериканизм становился более сдержанным, тогда как моральный, напротив, расширял свое присутствие в литературе и публицистике.
Это видно, например, в известном романе Всеволода Кочетова «Чего же ты хочешь?», опубликованном в 1969 году. Его основной сюжет строится вокруг тайной миссии группы сотрудников ЦРУ, направленной на разложение советской молодежи и вербовку агентов. Каждый из шпионов имеет свою специализацию в поиске «слабых мест» общества, его нестойких элементов, и выступает как опытный искуситель. Неформальным лидером группы является сексапильная славистка (Slavic studies) Порция Браун. Ее основная аудитория – непризнанные художники и поэты, охваченная тщеславием и эгоизмом богема. Подручный Порции, вечно улыбающийся блондин Юджин Росс, ищет спекулянтов и модников, разжигая страсть к бездумному и безответственному консьюмеризму.
Опасные американцы ничего не говорят о превосходстве демократического устройства или рыночной экономики, так как обращаются не к разуму, а к телу. Порция показывает комсомольцам стрипиз, а Юджин приучает пить виски с содовой – алкогольный напиток, который приятно расслабляет и притупляет внимание. В решающий момент этой победы аффектов над рассудком включается пластинка с рок-н-роллом: «пошла та музыка, под воздействием которой человек постепенно начинает дергаться. Сначала он отбивает такт одной ногой, затем включается в это и вторая нога, позже в ход идут уже и руки, плечи, голова, бедра, спина. Все тело ходит ходуном”.
У Кочетова Америка проникает как вирус в советское общество, иммунитет которого серьезно ослаблен. Новое поколение советских людей, выросшее после Второй мировой войны, больше не способно к самоконтролю и, под влиянием внешних возбудителей, начинает бессознательно воспроизводить поведение рыночного homo economicus. Противостоять этому могут лишь отдельные идейные коммунисты и силовые структуры государства.
Нараставший кризис советского общества (отдельные проявления которого — такие, как рост теневой экономики и разочарование в социализме — на самом деле были верно описаны в романе Кочетова) антиамериканизм объяснял как следствие внешней причины, тайной войны с целью морального разложения советского человека, организованной ЦРУ.
С начала 1980-х, когда этот кризис вступает в финальную фазу, получает распространение культовый документ морального антиамериканизма – так называемый «план Даллеса» по уничтожению СССР. Как и «Протоколы сионских мудрецов» (представлявшие собой искаженный отрывок из памфлета французского писателя Мориса Жоли), «план Даллеса» также имел литературную основу – монолог отрицательного героя романа Анатолия Иванова «Вечный зов». От лица злодея в этом тексте излагается масштабная программа морального разложения советского общества через внедрение «ложных ценностей». Сила этих ценностей заключена в их бессознательном характере: это «культ секса, насилия, садизма, предательства”, “пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом”. Перед нами ужасные результаты победы тела над духом, частных интересов над общими.
Дискуссии о подлинности «плана Даллеса», развернувшиеся в 1990-е гг. между националистическими конспирологами и прозападными либералами быстро зашли в тупик. Ведь главным доказательством в пользу реальности «плана» были не рациональные аргументы, но его фактическое осуществление: не так важно, кто на самом деле написал этот текст, Аллен Даллес или Анатолий Иванов – важно, что Советский союз действительно развалился, а хаос первоначального накопления сопровождался необузданным насилием и деградацией общества.
Поздне-советский моральный антиамериканизм не только не объяснял природу внутренних противоречий советского общества, которые привели к его концу, но и сам был их проявлением. Он был показателем глубокого недоверия советского государства к своим собственным идейным основаниям. Пафос морального антиамериканизма был действительно направлен против проникновения рынка, — но не с социалистической, а с консервативной позиции. «Сущность» человека рассматривалась им как греховная и эгоистическая. Это зло, которое рвется наружу, необходимо постоянно сдерживать при помощи государственной дисциплины и репрессий.
Пост-советский режим, включая его путинскую трансформацию, стал торжеством логики рынка, полной победы частного интереса над общим. Более того, цинизм и моральный релятивизм составляет важный мотив современной российской идеологии, «здравого смысла», объединяющего элиты и массы: каждый хочет лишь удовлетворения своего частного интереса. Люди добиваются государственных должностей, чтобы обогатиться, — или выходят на митинги оппозиции, чтобы получить за это деньги (разумеется, американские). Это естественно, человек так устроен. И когда вас начинают убеждать в обратном, рассказывая о гражданском долге или демократических ценностях – перед вами наверняка лицемер и лжец. Подобное же объяснение применимо и для внешней политики – страны, как и люди, лишь ищут выгоды для себя, а западная риторика универсальных ценностей – трюк, рассчитанный на простаков.
Идеологический парадокс, однако, состоит в том, что этот цинизм вполне сочетается с элементами морального антиамериканизма, унаследованного от времен позднего СССР. Сочетание этих двух моментов впервые было представлено в программном для путинской эпохи фильме «Брат-2» Алексея Балабанова (2000 г.). Новый русский герой Данила, используя неограниченное насилие, побеждает криминального американского магната и восстанавливает попранную справедливость. Содержание морального урока, который Данила преподал американцам: «сила не в деньгах, а в правде». Американец может эксплуатировать российские ресурсы до тех пор, пока все встреченные им русские подтверждают его представление о жадности как основе человеческой природы. Однако Данила убеждает американца в том, что русские – не случайное сборище людей со своими интересами, но коллектив, связанный общей судьбой. Русский может стремиться к богатству, сексуальному удовлетворению и успеху (в конце концов, он тоже человек), но он должен при этом оставаться верным себе – т.е. своей национальной принадлежности и исторической судьбе России.
В новом антиамериканизме путинской эпохи главной проблемой становится не темная страсть к потреблению, возбуждаемая Америкой, но необузданная сексуальность. Потребление теперь не только не ослабляет единство нации, но наоборот, поддерживает и укрепляет национальную экономику. Сегодня вряд ли кто-либо смог разглядеть следы американского заговора в гипертрофированном стремлении к роскоши российской элиты или принявшей угрожающие масштабы кредитной зависимости большинства населения страны. Опасность сегодня исходит с другой стороны – от гомосексуализма и феминизма, разрушающих традиционную семью.
Структура морального антиамериканизма, таким образом, сохранена, но ее значительно содержание изменилось. Это изменение, если разобраться в нем серьезно, отражает одно из главных противоречий официальной государственной идеологии — между ритуальной преемственностью СССР и его содержательным отрицанием. Нынешняя Россия не только не провозглашает универсальные ценности социального равенства, альтернативные американским, но и настаивает на их невозможности. Ведь это и есть «правда», с которой сегодня уже мало кто может поспорить.
Текст опубликован по-английски на InRussia
]]>
Этот текст — о причинах и предварительных итогах движения «за честные выборы» — был написан относительно недавно, весной 2013 года, но сегодня местами читается как будто из другой эпохи. Аннексия Крыма, война в Украине, внешнеполитические авантюры в Сирии и консервативный поворот путинского «третьего срока», казалось бы, радикально изменили ситуацию в стране и закрыли возможность повторения чего-то, подобного событиям рубежа 2011-2012 гг. Однако, составляющие тех событий, не являлись чем-то случайным и поверхностным, но напротив, были укоренены в противоречиях самого пост-советского социального и политического порядка и во многом сохраняются и сегодня.
Протест и политическая абстракция «честных выборов»
Сегодня можно без преувеличения сказать, что 5 декабря 2011 года стало точкой отсчета нового политического времени в пост-советской России. В этот день, после объявления итогов выборов в Государственную Думу, тысячи людей вышли в центр Москвы, чтобы выразить свой протест массовыми фальсификациями, обеспечившими безоговорочную победу бессменной правящей партии «Единая Россия». Уже через несколько дней, 10 декабря в митинге с требованием «честных выборов» в Москве приняло участие около 100 тысяч, что стало самой массовой уличной акцией за предшествующие 15 лет истории пост-советской России.
Новое протестное движение 2011-2012 гг. стремительно вернуло изолированную и ограниченную российскую политику в интернациональный контекст, рифмуясь с событиями «арабской весны» в Тунисе и Египте, американским OWS, выступлениями против политики «строгой экономии» в Испании и Греции. Каждое из этих движений, при всей своей специфике, стало следствием углубляющегося кризиса господствующего порядка — как экономического, так и политического. Однако в Западной Европе и США эти движения ставили под сомнение представительную демократию — как идеологию, определяющую формы господства и политического участия. В России, напротив, именно возвращение к чистоте демократической процедуры стало требованием, способным объединить прежде пассивные и деполитизированные социальные группы, составившие пеструю композицию московских протестов. Лозунг «честности» был неразрывно связан и с принципиальным отказом от определенного политического выбора, а сомнительное определение «демократия — это процедура» было одним из наиболее популярных среди оппозиционных лидеров и журналистов. Люди требовали возвращения самого права на политику, но отказывались думать о том, как это право может быть содержательно реализовано.
После двух постсоветских десятилетий, сопровождавшихся насилием «первоначального накопления», деградацией и распылением основных классов советского общества и утверждением власти новой элиты, были практически полностью разрушены все традиции социальной солидарности и не осталось ни одного института, способного выразить коллективное недовольство. В этих условиях только политическая абстракция, предельно отчужденный от социальной реальности принцип смог стать объединяющим и мобилизующим фактором.
Противоречия «управляемой демократии»
Если на площадях Барселоны и Мадрида требование «реальной демократии» стало вызовом демократии представительной, то в России требование «честной» представительной системы было направлено против так называемой «управляемой демократии» — специфического способа регуляции политики, выстроенной за годы господства новой постсоветской элиты.
Эта система, в которой формально присутствуют все институты, необходимые для классического комплекта представительной демократии — разделение властей, частные СМИ, парламент и набор основных политических партий. Однако каждый из них не является частью динамического механизма, способного к саморегулированию и воспроизводству. Элементы демократии не работают сами по себе, но вполне открыто управляются «вручную» извне. Подлинный центр, где определяются примерные результаты будущих выборов, акценты освещения в медиа тех или иных событий, изменения во внутренней и внешней конфигурации политических партий, находится в Администрации президента — не зафиксированного в Конституции органа, по странному совпадению занимающего здание в центре Москвы, где в прежние времена размещался ЦК КПСС. «Управляемая демократия» не просто подменяет демократическую политику ширмой, но последовательно создает ее имитацию. И подобная имитация оказывается не менее важной для сформировавшегося способа правления, чем те непубличные способы принятия решений, которые эта имитация маскирует.
В этом отношении «управляемая демократия» представляет собой нечто отличное и от известных авторитарных образцов. Как отмечал Дмитрий Фурман, один из наиболее тонких и проницательных российских политологов, «в отличие от других авторитарных систем власть здесь не основывается ни на «физической силе» армии, как в военных диктатурах, ни на древней традиции, как в неконституционных монархиях, и демократический камуфляж в этой системе является необходимым, имманентным ей элементом.»
Такая специфическая модель гегемонии пост-советского правящего класса была основана не на идеологическом включении большинства в институты воспроизводящегося политического порядка, но напротив, выступало мощным и эффективным инструментом дискредитации любых форм политического участия. Выборы существовали для того, чтобы внушить большинству отвращение к выборам, многочисленные официальные медиа последовательно работали на подрыв доверия к самим себе.
Различные организации, создававшиеся стратегами из президентской администрации для борьбы с оппозицией, вроде нашумевшего молодежного движения «Наши», на самом деле были очень далеки от любых типов консервативной мобилизации снизу. Эти дорогостоящие пропагандистские проекты должны были лишь добавить живых примеров к тому, в чем люди уже были убеждены. Суррогат политики органично дополнял мировозрение, утвердившееся после «шоковой терапии» 1990-х и цементировавшего «путинский консенсус» 2000-х — в его основе лежало глубкое, основанное на личном травматичном опыте, убеждение в отсутствии каких-либо общих интересов, которые могли бы быть реализованы как при помощи государства, так и путем самоорганизации.
Утверждая этот убийственный политический скепсис большинства, «управляемая демократия» в то же время удовлетворяла ограниченной потребности в представительстве, которая явно существовала у крупного бизнеса и различных кланов бюрократии. Нижняя( Дума) и верхняя( Совет федерации) палаты заполнялись лоббистами, а места в списках всех без исключения парламентских партий продавались по известным рыночным ценам. Здесь с легкостью находили себе место бизнесмены, рассматривавшие депутатский статус как переходный этап к новым карьерным высотам, или просто нуждавшиеся в парламентской неприкосновенности, чтобы обезопасить себя от собственного криминального прошлого.
Легитимность этой системы получила достойное обоснование со стороны своих создателей. Так, один из ее главных архитекторов, Владислав Сурков, долгие годы занимавший ключевую позицию заместителя руководителя Администрации президента, предпочитал называть ее «суверенная демократия». Смысл этого термина заключался в том, что демократический опыт каждой страны коренится в ее неповторимой национальной политической культуре, не допускающей слепого подражания иностранным образцам.
В своих многочисленных текстах, Сурков, выступавший в роли своеобразного «публичного интеллектуала», доказывал, что «несовершенство» российской демократии связано с ее молодостью, и потому она неизбежно будет нести на себе черты деспотических столетий предшествующей русской истории. Фактически, не суверенность становилась в этом случае источником демократии, но жестко лимитированный сверху демократический опыт оказывался тестом на приобщение к суверенности, источником которой на самом деле выступала вневременная элита, создавшая «русскую политическую культуру». Российская «суверенная демократия» в этой модели оказывалась фактически лишена исторического учреждающего момента, когда на смену самодержавию или диктатуре партии приходит воля народа, создающая новый порядок вещей. «Суверенность» понималась прежде всего, как подтверждение того, что источник власти, вне зависимости от своего характера, продолжает оставаться внутри страны, а не за ее пределами. Демократические формы имеют ценность лишь постольку, поскольку способствуют этому, а не создают препятствия. Однако за подобным консервативным обоснованием, с обильным использованием цитат из Федора Достоевского и ультраправого идеолога белой эмиграции Ивана Ильина, скрывалось куда более исторически близкое происхождение суверенности.
Краткая генеалогия российского парламентаризма
Настоящие основания российского суверенитета были заложены в начале 1990-х, когда была разделена между новыми владельцами колоссальная государственная собственность бывшего СССР. Процесс приватизации в России, несмотря на сопровождавший его хаос и неконтролируемое насилие, изначально проходил в четко заданных границах и имел ярко выраженную политическую направленность. От передела собственности был практически полностью отстранен иностранный капитал, и новые капиталисты рекрутировались из числа бывших комсомольских лидеров или просто случайных энергичных людей. Новая элита создавалась решительными, быстрыми и жестокими мерами сверху. Один из основных творцов приватизации, Анатолий Чубайс, занимавший в начале 1990-х пост заместителя премьер-министра, говорил, что задачей всего процесса было создание «нового класса собственников”, а сама “приватизация не была вопросом идеологии или каких-то абстрактных ценностей, это был вопрос реальной политической ежедневной борьбы”. Учреждение капиталистической элиты было одновременно и учреждением нового политического порядка, обеспечивающего ее господство.
К началу 1993 года обостряется конфликт между президентом России Борисом Ельциным и Верховным Советом, который с самого начала являлся не просто спором о разделении полномочий между двумя ветвями власти, но был ключевым этапом борьбы за утверждение нового типа суверенности. 21 сентября 1993 года Ельцин своим указом распускает Верховный Совет, который в ответ принимает решение о лишении его президентских полномочий, а 2-4 октября на улицах Москвы разворачивается кратковременная, но кровавая и ожесточенная гражданская война между подчиненными Ельцину полицейскими спецподразделениями и обреченными и плохо организованными сторонниками Верховного Совета. Ее итоги — несколько сот погибших, расстрелянный из танков Белый дом, где тогда размещался Верховный совет, и принятие новой Конституции, действующей по настоящий момент.
Карл Шмитт отмечал, что неразрешимым конфликтом всякой демократии является расхождение между самим принципом тождества народа и правительства — и фактическим воплощением воли большинства. Неизменным всегда остается принцип «общей воли», то есть демократической формы, в то время как ее содержание постоянно меняется. Более того, это содержание оказывается почти всегда недостоверным, вторичным по отношению к форме, — так же, как «воля всех» всегда остается вторичной по отношению к «общей воле». Демократический процесс, таким образом, представляет собой ни что иное, как постоянное воспитание его участников, которые должны приучаться видеть в голосовании прежде всего не механизм реализации своих интересов, но торжество принципа часто вопреки этим интересам. Субъектом демократии становится не «народ», а носители принципа, которые могут и должны утверждать его любыми методами, — что, по мнению Шмитта, не создает принципиальных преград и для внедрения демократии с помощью самого жесткого насилия над большинством.
Эта дисциплинирующая функция демократии была прочно усвоена новой политической элитой, утвердившей свою власть после коллапса Советского Союза в 1991 году. Носители «демократического принципа» очевидно были исполнены желания преподать урок стране, лишенной исторического опыта демократии. Так же, как рыночная экономика должна быть внедрена при помощи «шоковой терапии», этого радикального метода лечения перенесшего долговременную болезнь государственного планирования общества, демократия могла утвердится лишь при помощи «шока» политического. Президентская сторона конфликта 1993 года, использовавшая самоназвание «демократические силы», ясно видела противоречие между демократическими содержанием и формой, и твердо убеждена в необходимости подавить первое ради торжества второй.
Так, Борис Ельцин, вероятно не читавший Шмитта, тем не менее отмечал в своем дневнике: «Я понимал, что из конституционной ловушки, когда практически любое наше действие можно объявить вне закона, есть только такой выход. Президент формально нарушает конституцию, идет на антидемократические меры, разгоняет парламент — ради того, чтобы демократия и законность утвердились в стране”.Представители либеральной интеллигенции также не отставали в переживании остроты политического момента, призывая к еще более решительным репрессиям. Например, вдова Андрея Сахарова, известный правозащитник Елена Боннер, писала, что «главной ошибкой Ельцина и вместе с ним истинных демократов …оказалась… их чрезмерная, до фанатизма, приверженность демократическим институтам и демократическим механизмам власти в недемократической стране»(1).
Наглядным пособием для утверждения духа демократии против ее буквы стал расстрелянный парламент, и его перманентное унижение превратилось в один из базовых принципов новой Конституции. Согласно этому документу, президент, вне зависимости от результатов парламентских выборов, назначал правительство, и мог распустить Думу, если она трижды отклонит предложенную им кандидатуру премьера. Более того, Дума могла быть распущена президентом в случае недоверия действующему правительству в течении семи дней. Российский парламент стал самым бесправным и зависимым органом государственной власти, и даже его зданием и бюджетом теперь распоряжалось Управление делами Президента.
Новая природа президентской власти, сильной рукой приучающей отсталое и неподготовленное общество к рынку и демократии, была окончательно утверждена в 1996 году, когда Ельцин был повторно переизбран на свой пост. Обладая ничтожной популярностью в начале избирательной кампании, он построил свою стратегию на открытом утверждении безальтернативности выбора. К моменту, когда он вышел во второй тур вместе с лидером коммунистов Геннадием Зюгановым, большинство избирателей уже знало, что Ельцин победит в любом случае — либо с преимуществом голосов над соперником, либо при помощи нового чрезвычайного положения. Эта агрессивная избирательная кампания стала последней в постсоветской истории, когда исход президентских выборов не был до конца очевиден каждому. Именно тогда был заложен принцип консенсуса правящей элиты вокруг одной фигуры, который фактически в форме плебесцита затем санкционировался избирателями. Президент, как источник решений, превратился в инстанцию, находившуюся за пределами политической борьбы. А парламент, лишенный возможности самостоятельно принимать любые решения — стал центром политики, фактически ее синонимом для большинства населения.
На выборах в первую Государственную Думу в декабре 1993 года безусловную победу (22,92%) одержала партия Владимира Жириновского — полукриминальное нестабильное объединение вокруг циничного и неамбициозного популиста, готового послушно играть свою роль в рамках режима «управляемой демократии». Голосование за Жириновского, как и успехи Коммунистической партии на последующих выборах, отражали одновременно и подавленное недовольство политикой исполнительной власти, и презрение к Государственной Думе, которая представлялась площадкой для псведополитического спектакля больше, чем местом действительного принятия решений.
Социальные основания «управляемой демократии»
Стабилизация российского капитализма в путинскую эпоху, вопреки надеждам радикальных левых, не привела к воспроизводству классических противоречий между наемными работниками и новой буржуазией. Формирование новой социальной композиции российского общества проходило на фоне непережитой травмы «шоковой терапии» и массовой деиндустриализации 1990-х, когда почти половина традиционного советского рабочего класса потеряла свои рабочие места и, соответственно, свою прежнюю классовую идентичность( так, к в 1999 году численность промышленных рабочих составляла всего 62% от уровня 1990 года). Ограниченный рост новых независимых профсоюзов, организовавших несколько ярких наступательных забастовок в середине 2000-х, был практически полностью связан со специфическим сектором российской экономики — новыми компактными предприятиями, созданными с нуля транснациональными корпорациями. Эти инициативы, однако, выглядели как эксцессы в окружении пассивных масс работников старых крупных советских предприятий и бюджетного сектора. Показательно, что, несмотря на достаточно высокий общенациональный резонанс таких событий, как 4-х недельная забастовка на заводе Ford в окрестностях Санкт-Петербурга в конце 2007-го, за все десятилетие экономического роста в России не было ни одной забастовки солидарности.
Единственным прецедентом общенационального социального движения в описываемый период стали выступления против так называемой «монетизации льгот» зимой 2005 года. В результате слишком резких действий правительтства на пути к открытию возможности приватизации общественного сектора и т.н.»естественных монополий»( энергетики, транспорта и т.п.), миллионы жителей страны единовременно лишились прямых льгот на бесплатный проезд и дотаций на оплату жилья. Неожиданно для правящей элиты, рассчитывавшей на развитые за годы рыночных реформ навыки «адаптации» населения к последовательному ухудшению собственной жизни, почти все крупные города страны оказались охвачены стихийными протестами. Требование отмены новой реформы объединило как широкие слои, непосредственно пострадавшие от «монетизации» — пенсионеров, многодетные семьи, инвалидов, военных и некоторые категории государственных служащих, — так и стало катализатором общего социального недовольства.
Показательно, что парламентские партии(включая КПРФ) и «официальные» профсоюзы были застигнуты врасплох стремительно начавшимся движением, и не сыграли большой роли ни в организации протестов, ни в их политическом представительстве. Владимир Путин, ощутивший болезненный удар по собственной популярности, быстро нашел выход — переложив ответственность за неудачную реформу на нескольких министров и фактически отменив ее основные положения. Сверхприбыли от нефтяного экспорта, сосредоточенные в специальных правительственных фондах, давали возможность осуществлять целеноправленные вбросы внебюджетных средств и гасить любые очаги социальной напряженности. Сформированные на волне протестов против «монетизации» локальные «координационные советы единых действий» в дальнейшем не смогли выстроить регулярной общенациональной сети, частично распавшись, частично сосредоточившись на местных конфликтах, преимущественно в жилищной сфере.
Появившийся в 2000-е слой «активистов» составлял меньшинство, которое могло действовать лишь на уровне отдельных предприятий, кварталов или небольших городов. Между массовым пассивным недовольством и локальной активистской практикой лежала настоящая пропасть. Любые социологические опросы неизменно фиксировали высокую степень готовности репондентов принять участие в забастовках или акциях протеста. Так, в 2005 году, на волне выступлений против «монетизации льгот», от до 57% опрошенных выражали готовность принять в них участие, — и только 2% действительно это сделали. В 2008-м 27% опрошенных работников говорили о желании принять участие в забастовке, 55% с одобрением относились к бастующим — тогда как всего в стране за этот период было зафиксировано всего 11 забастовок.
Неолиберализм стал не только безусловным ориентиром политики правящей элиты, но органической идеологией общества, где жестокая конкуренция и стремление к капитализации собственной социальной позиции превратились в, пользуясь альтюссеровской дефиницией, «организующую практику». Острое чувство отчуждения от власти сочеталось с готовностью мириться с собственным бесправием. Это переживание отчуждения от власти находило свое выражение и в нерегулярном социальном активизме на локальном уровне, и в благотворительной волонтерской активности, и в бессильном выражении недовольства в ответах на вопросы социологов.
Некоторые либеральные исследователи описывали состояние российского общества в 2000-е как следствие «пост-тоталитарного синдрома», этой своеобразной разновидности «бегства от свободы», в которой большинство оказалось неготово к самостоятельному принятию решений в новой реальности рынка и демократии, и готово было снова перекладывать ответственность за свою судьбу на государство(2). Это утверждение, говорившее больше о мировозрении самих либералов, чем о действительном положении вещей, обычно связывалось и с принципиальным для этой среды противопоставлением двух десятилетий, времени Ельцина и Путина. Вторая описывалась как реванш государственной бюрократии, снова стремившейся к доминированию в экономической и общественной жизни. С другой стороны, важной составляющей пропаганды «суверенной демократии» также было противопоставление новой эпохи, связанной с восстановлением государства, развалу и деградации «лихих 90-х».
Однако на самом деле имел место процесс фактического распостранения логики приватизации на сам государственный аппарат и его роль в экономике и обществе. Вадим Волков в своей важной работе «Силовое предпринимательство» называет период транзита от Ельцина к Путину, начавшийся в 1999 г., «четвертым этапом приватизаци», когда государство, уступившее место мафии на специфическом рынке «охранных услуг» в предшествующие годы, начало активно занимать ее место(3). Этот процесс не возвращал государству его силу как стоящего над обществом регулирующего института, но превращал само государство, а точнее, его аппарат и силовые структуры, в активного рыночного субъекта. Государство не обретало вновь функции контроля над обществом — но наоборот, стремительно становилась его частью.
В экономической сфере это означало, что фактическое право собственности теперь гарантировалось не при помощи неформального соглашения с частными продавцами «охранных услуг», но исключительно при содействии полиции и других силовых структур. В результате упомянутого «четвертого этапа» десятки и сотни конфликтов, в которые были втянуты государственные структуры, завершились перераспределением в пользу собственников, обладавших наиболее прочными связями в полиции, спецслужбах или судах( у которых в России есть своя собственная силовая структура).
На уровне социальной политики путинская Россия все больше приближалась к некому специфическому варианту того, что Дэвид Харви называет «неолиберальным государством»: то есть практически полную редукцию государства как инструмента перераспределения общественных благ при его исключительном усилении как инструмента поддержания открытого классового господства. Эта «реставрация классовой власти» означает, что государство усиливается как бюрократический аппарат, постоянно подтверждая свои силовые функции для того, чтобы проводить политику, открыто противоречащую интересам большинства. Харви подчеркивает, что для подобного фронтального наступления необходим новый тип гегемонии, основанный на консолидации правящего класса, готового к открытому наступлению.
Основой путинского авторитаризма стал прочный консенсус правящей элиты вокруг положения о «недопустимости пересмотра итогов приватизации», который стремились превратить и в ключевой тезис молчаливого согласия общества на этот тип политического режима. Стоит заметить, что некоторые российские и западные левые, как мне представляется, совершенно ошибочно характеризовали режим Путина как «бонапартистский», отсылая к его репрессивным акциям против отдельных олигархов( вроде Михаила Ходорковского) и склонности к популистской риторике. На самом деле сложившийся на развалинах общества тип неолиберального консенсуса не предполагал свойственных классическому бонапартизму автономии государства от интересов господствующего класса, лавированию между низшими и высшими, и, тем более, прямому обращению к массовой поддержке через плебисцит. Наоборот, российская версия «неолиберального государства» еще в большей степени, чем американская или западноевропейская, была неразрывно связана с правящим классом, а сама государственная бюрократия стала его неотъемлемой частью.
Такое государство, репрессивная мощь которого возрастает пропорционально дерегуляции экономики, все уверенней чувствует себя в режиме постоянного политического наступления. Увеличивавшийся на протяжении всех 2000-х корпус «антиэкстремистских» законов, усиление спецслужб и специальных полицейских департаментов, как и бесконечная и все более структурно необходимая для государства в целом «антитеррористическая операция» на Северном Кавказе, были связаны с тем, что сам перманентный режим «чрезвычайного положения» стал принципиальным основанием суверенности правящей элиты.
На всем пути формирования и укрепления путинской «вертикали власти» ее неотступно сопровождали постоянные чрезвычайные ситуации. Террористические акты, внезапные вспышки массового насилия, стихийные бедствия и грандиозные пожары — все эти характерные знаки последнего десятилетия возникали не только как результат сознательного заговора, направленного на узурпацию власти и подавление оппозиции, но и как естественный продукт распада общества и государства.
Государственный аппарат, и в особенности, полицейские структуры здесь выступали не в качестве силы, которая может этот распад остановить, но появлялась как самый значительный игрок, способный наиболее эффективно в условиях этого распада действовать. Он был готов играть с каждым по его правилам и побеждать на территории противника: вести себя как самый жестокий террорист в борьбе с террористами, регулировать уровень уличного насилия с помощью еще большего насилия, подавлять преступность, прибегая к самым изощренным преступным методам.
Само понятие «власть», который так часто использовали для определения противника участники оппозиционных движений в 2000-е годы, как нельзя более емко вмещало в себя эту неразрывную связь экономического господства корпораций, антисоциальной политики, полицейского насилия и авторитарных мер, составлявших содержание господствовавшего пост-советского порядка. С «властью» можно смириться и найти свое место в существующих отношениях, к ней можно испытывать глухое и политически невыраженное недовольство или занять активную позицию сопротивления. Но ее тотальность неизбежно выводит любой конфликт на уровень конфликта с системой в целом.
Демократия становится неуправляемой
24 сентября 2011 года на съезде правящей партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил выдвинуть Владимира Путина на третий президентский срок на предстоящих выборах в марте следующего года. Несмотря на то, что такой поворот событий предсказывался многими, решение Путина выглядело откровенно вызывающим даже по отношению к самой системе «управляемой демократии». Ведь одним из оснований ее стабильности и воспроизводимости являлась приверженность Конституции 1993 года, буква которой не позволяла занимать высший пост более двух сроков подряд, а дух — не ставить саму позицию сверх-сильной президентской власти в зависимость от конкретной личности. И если первая формально была соблюдена — Путин после окончания первых двух сроков в 2008 году уступил место в Кремле Медведеву, и его возвращение не противоречило закону -, то со вторым возникала очевидная проблема. Традицию передачи власти через консенсус элит вокруг фигуры «преемника» заложил Борис Ельцин, когда ушел в отставку в 1999 году, назвав своим преемником Путина.
Этот механизм не только создавал возможность сохранения необходимой для этой системы «имитации» демократических процедур, но и обеспечивал равноудаленность от власти различных групп внутри правящего класса. Еще в 1990-е было очевидно, что любое нарушение этого порядка ради сохранения личной власти рискует обернуться резким ростом влияния тех силовых структур( или кланов внутри этих структур), которым президент буден обязан властью вопреки закону. Сама российская Конституция отражала не действительный баланс ветвей власти или общественных сил, но была консолидированным мнением правящего класса, после кризиса 1993 года выстраивавшего модель своей политической гегемонии.
Возвращение Путина означало, что будущее этой политической системы теперь напрямую связано с его персоной, а из логики этого решения следовала неизбежность следующих двух президентских сроков подряд. Таким образом, нахождение Владимира Путина у власти теперь должно было продлиться до 2024 года( так еще в 2008 году срок президентских полномочий был продлен с 4 до 6 лет).
Это событие, однако, не вызвало серьезных протестов, лишь увеличив общее пессимистичное равнодушие и депрессивные настроения среднего класса, представители которого все чаще стали говорить об отсутствии перспектив и предпочтительности эмиграции. Новый срок Владимира Путина, вероятно, был бы утвержден без серьезного сопротивления снизу, если бы такое решение нуждалось бы лишь в одобрении через прямой плебесцит. Однако система «управляемой демократии» несла в себе принципиальный элемент «усложнения политики»(используя термин Ханны Арендт), отличавший ее от простого авторитарного правления. Ключевым опосредующим звеном этого «усложнения», как уже было показано выше, являлся российский парламент.
Утвердившаяся за годы существования этой системы традиция предполагала последовательную связь между думскими и президентскими выборами: первые всегда проходили в декабре и предшествовали следующим, проходившим в марте. Парламентские выборы в подобном цикле становились необходимым этапом, где в полной мере выявлялся статус самого парламента как симуляции политического. Согласно этому постоянно воспроизводимому сценарию, сначала во внушающей отвращение спектулятивной борьбе побеждала правящая партия, а затем, уже в форме триумфальной легитимации, подтверждал свое право на подлинную власть стоящий и над политической сферой, и над обществом в целом, президент. И если первая часть цикла должна была подтвердить дискредитированную и маргинальную роль гражданского политического участия в российском обществе , то вторая подчеркивала автономию такого сомнительного участия от действительного осуществления верховной власти.
«Единая Россия» выполняла в этой схеме важную функцию, определяемую словарем пост-советской политики как «партия власти». Эта структура, которую сложно отнести даже к привычному типу «электоральных партий», скорее выполняла роль барометра лояльности бюрократии и связанного с ней корпоративного бизнеса, а также их способности поддерживать в обществе тип гегемонии, характерный для российского капитализма. Обеспечение безусловной победы на парламентских выборах включало в себя подтверждение верности региональных элит, отвечавших за «правильное» распределение голосов в своих регионах, как и готовность крупного и среднего бизнеса предоставить ей финансовую поддержку, гарантировавшую им в дальнейшем благоприятную атмосферу в отношениях с государственными органами. Избирательная кампания «Единой России» также включала в себя и принесение своеобразной присяги на верность всего бюджетного сектора, служащие которого, от учителей до работников жилищной инфраструктуры, должны были распространять ее агитацию и участвовать в работе местных избирательных комиссий, в случае необходимости «корректируя» результаты выборов. Таким образом, большая или меньшая степень фальсификаций изначально была заложена в эту модель. Так, на предыдущих выборах 2007 года, когда «Единая Россия» поставила исторический рекорд своих результатов, получив 64, 3% и соответственно 315 депутатских мандатов( из 450), наблюдатели говорили о многочисленных нарушениях.
Роль остальных партий, включенных в реестр «управляемой демократии», оставалась более чем скромной. К выборам 2011 года в России оставалось всего семь политических партий, имеющих официальный статус, позволявший им выставлять общенациональный список для участия в выборах — и только три из них имели серьезные шансы преодолеть 7% избрительный барьер, необходимый для формирования парламентской фракции. Набор этих партий оставался неизменным на протяжении долгих лет, и представлял результат тщательной селекции, которую они прошли в Администрации президента. Каждая из этих партий должна была представлять определенный сектор пассивного общественного недовольства, и затем составить достойную часть насквозь фальшивого оркестра будущей думской симфонии. Так, коммунисты и левоцентристская «Справедливая Россия» представляли полюс социального протеста, обладая монополией на безопасную критику неолиберальной правительственной политики( но не в коем случае не президента лично!). Неизменная партия Владимира Жириновского привлекала голоса циников, единственным мотивом которых было доведение до абсурда бессмысленных и скучных парламентских дебатов.
Абсентеизм, ставший одной из центральных проблем для западных репрезентативных демократий, в России, напротив, был совершенно органичен для политического механизма «управляемой демократии». Явка избирателей на уровне 60% на парламентских выборах отражала не только реальную активность избирателей, но и мобилизацию на выборы зависимых групп( например, все тех же служащих бюджетного сектора или военных). Чтобы добиться заранее определенного результата, власти были заинтересованы в высоком проценте участия тех групп избирателей, чей выбор был в наибольшей степени предсказуем.
Эти особенности электоральной процедуры в России, которые должны были от одного цикла к другому утверждать отчуждение от политики абсолютное большинство населения, оказались политической школой, в которой значительная часть избирателей получила возможность изучить слабые места системы.
Летом 2011 года, еще до публичного заявления о выдвижении Владимира Путина на третий президентский срок, популярный оппозиционер Алексей Навальный призвал в своем блоге к голосованию «за любую партию, кроме Единой России». Эта стратегия была принципиально ориентирована на тех, кто был лишен определенного выбора среди скудного набора партий, представленных в избирательном бюллетене. Позиция голосования «против Единой России» с самого начала включала в себя понимание того, что главным политическим вопросом выборов является срыв символической победы правящей партии, предваряющий триумф основного кандидата на следующих за ними президентских выборах.
Навальный лишь озвучил то, что на интуитивном уровне понимали миллионы людей, последовательно поддерживавших практически любых кандидатов на местных выборах, выступавших в качестве основных конкурентов «партии власти». Неуклонно снижавшийся рейтинг «Единой России» заставлял всю громоздкую машину лояльности, снизу доверху, в лихорадочном темпе работать на выполнение поставленной сверху задачи. Губернаторы боялись, что результат ниже 50% за правящую партию в их регионе приведет к снижению федеральных дотаций или вообще может стоить им должности; городские и районные власти со страхом ждали выговоров со стороны губернаторов; директора школ, ответственные за работу местных избирательных комиссий, стремились отвести от своих коллективов опасность сокращений рабочих мест и зарплаты. Вся вертикаль власти, для которой парламентские выборы прежде были лишь подтверждением непроговоренных обязательств и отношений зависимости, теперь воспринимала их как ключевое политическое испытание.
Неожиданно оказалось, что именно вопрос о будущей Думе является той точкой, в которой пассивное массовое недовольство не только может найти свое политическое выражение, но и , выйдя за рамки электорального процесса, стать общим основанием для активного протеста. Тысячи гражданских активистов, которые до этого были рассредоточены по локальным инициативам, небольшим политическим группам и неправительственным организациям, осенью 2011 года целенаправленно зарегистрировались в качестве независимых наблюдателей на выборах. Именно их многочисленные видео-материалы и свидетельства уже в день голосования 4 декабря донесли до широкой аудитории факты беспрецедентных нарушений по всей стране.
На следующий день, когда были объявлены официальные результаты, тысячи людей вышли на протест в центре Москвы. Несмотря на то, что парламентские партии, у которых непосредственно были украдены голоса( в первую очередь КПРФ), фактически сразу признали итоги выборов и заняли свои места в новом парламенте, требование «честных выборов» стало объединяющим для дальнейших уличных выступлений.
Многие наблюдатели практически сразу после начала массовых протестов начали активно проводить аналогии российских событий с «цветными революциями» 2000-х в Восточной Европе и на пост-советском пространстве. Действительно, смена власти в Сербии, Украине или Грузии произошла в результате несогласия оппозиции с итогами выборов и уличных мобилизацией с требованием их пересмотра. Эти мобилизации также безусловно были связаны с тем, что в вопросе о выборах нашло свое выражение копившееся годами общее недовольство политикой правящих режимов. Однако постоянно воспроизводимый сценарий «цветных революций» предполагал принципальное сочетание раскола элит и уличных протестов, в котором последние никогда не играли самостоятельной роли и выступали в качестве главного аргумента в закрытых переговорах о перераспределении власти. Во всех этих историях массовые протесты, зачастую независимо от реальных мотивов их рядовых участников, превращались в манифестации политической поддержки оппозиционных лидеров, претендующих на власть.
Российская либеральная оппозиция еще в начале 2000-х была лишена своего места в системе «управляемой демократии». Подавляющее большинство ее лидеров были выходцами из окружения Ельцина, бывшими или действующими экспертами правительственных структур или представителями молодого поколения, настроенными на завоевание своего места в рамках существующей политической системы. Так же, как и правящая группа, они не ставили под сомнение итоги перераспределения государственной собственности и политических полномочий, зафиксированные в законодательстве начала 1990-х и принятой в 1993 году Конституции. Их политические ожидания на протяжении всей эпохи Путина ограничивались сначала мечтами о повторении «оранжевого» сценария, а затем более скромными надеждами на либерализацию системы сверху. Стремительный подъем уличных протестов в декабре 2011 года оказался для этой оппозиции не меньшей неожиданностью, чем для сотрудников Администрации президента, до последнего момента самодовольно полагавших, что они продолжают контролировать ситуацию.
Уличные протесты в России никак не были связаны с реальным расколом в среде правящего класса. Те линии расхождений, которые очевидно имелись к этому времени между разными силами в окружении Путина и Медведева, не зашли так далеко, чтобы вылиться в открытый конфликт, предполагающий важную роль массовых мобилизаций. Протест снизу опередил кристаллизацию разногласий сверху, в итоге больше способствовав временной консолидации вокруг предстоящей победы Путина на президентских выборах, чем попыткам всерьез ее оспорить.
Вопросы новой политической реальности
На протяжении всей недолгой, но бурной истории нового протестного движения в России, развивавшейся с декабря 2011го по май-июнь 2012-го, либеральные лидеры пытались стать политическим «голосом» стихийного движения, направленного против системы «управляемой демократии» и лишенного какой-либо общей программной альтернативы. Вызывавшая у многих недоумение политическая и социальная какофония этого движения, — где в одних демонстрациях принимали участие открытые неолибералы, критикующие правительство за увеличение бюджетных расходов, крайне правые, видевшие в нем центр заговора по заселению крупных российских городов мигрантами из Средней Азии, левые и анархисты, выступавшие против расизма и эксплуатации, — на самом деле были отражением сумбурного политического сознания большинства их участников, объединенных общим чувством глубокого отчуждения от возможности влиять на свою собственную жизнь. Лозунг «честных выборов» был интуитивно найденной верной стратегией, способной как активировать внутренние противоречия политической системой, так и стать точкой мобилизации дезинтегрированного общества. Этот лозунг не только не смог дать объединяющую программу радикальных перемен, но и в качестве стратегии оказался ограниченным как определенным политическим моментом, так и социально-географическим активным меньшинством крупных городов( преимущественно Москвы и Петербурга).
Однако несмотря на то, что с помощью серьезного напряжения сил правящей элите удалось придать ситуации черты поверхностной «нормализации», и довести до конца запланированный сценарий, обеспечив третий срок Владимира Путина, политической системе «управляемой демократии» был нанесен смертельный удар. Каждая из ее составляющих уже не в состоянии работать как прежде. «Единая Россия», окончательно дискредитированная в глазах значительной части избирателей, уже не сможет обеспечивать триумфального большинства голосов на общенациональных выборах. Последние месяцы ее партийная машина трещит по швам, видные функционеры один за другим отказываются от своих должностей, пытаясь найти место работы в других правительственных структурах, а президент Путин открыто ведет работу по созданию параллельного ЕР политического монстра, «Общероссийского народного фронта», в который он будет готов теперь инвестировать собственный пока еще достаточно высокий рейтинг доверия.
Российский парламент всего за один год принял рекордное количество одиозных репрессивных актов, от беспрецедентного увеличения штрафов за участие в «несанкционированных» демонстрациях и жестких ограничений деятельности НГО до мракобесного закона об «оскорблении прав верующих» и запрета «пропаганды гомосексуализма». Именно благодаря парламентскому большинству в прошлом году было также одобрено присоединение России к ВТО и принят неолиберальный «Закон об образовании». Кроме того, впервые за всю новейшую историю российского парламентаризма всего за год мандата были лишены шестеро депутатов, в основном от «Единой России», — крупных бизнесменов, скрывавших доходы и собственность от налоговых органов и незаконно продолжавших заниматься коммерческой деятельностью.
Владислав Сурков, чье имя еще недавно считалось синонимом всей системы «управляемой демократии», последовательно лишился постов в Администрации президента и правительстве. Место сложной сбалансированной системы управления политическим процессом заняла неуклюжая машина открытых репрессий, в которой все более значимую роль играет Следственный комитет РФ — созданная два года назад и обладающая огромными полномочиями структура, подчиненная лично президенту.
«Управляемая демократия» осталась в прошлом, и, несмотря на видимость восстановления порядка и спада уличной активности, Россия уже вступила в новый политический период. На фоне очевидно ожидающей российскую экономику стагнации, его характерными чертами будут растущая политическая неуправляемость, усиление бессистемной жестокости правящего класса и усугубление всего набора противоречий, который вывел на улицы десятки тысяч в декабре 2011 года. Эпоха «управляемой демократии» тем не менее, оставила слишком проблемное наследство — российский парламент и дискредитированные выборы, которые еще смогут сыграть свою роль в рождении подлинной политики снизу.
- Боннэр Е. «Поражения и победы Бориса Ельцина» // Русская мысль. 19–25.03.1993
-
Гудков Л., Дубин Б. Посттоталитарный синдром: “управляемая демократия” и апатия масс // Пути российского посткоммунизма. М.: Издательство Р. Элинина, 2007.
Впервые опубликовано на английском в The South Atlantic Quarterly (Winter 2014)
Илья Будрайтскис — исследователь, публицист, редактор «Открытой левой»
]]>
Может показаться, что наступающее столетие революции застает Россию в самый неподходящий момент. Колоссальный масштаб и универсалистская амбиция этого события фатально не соответствует сегодняшнему состоянию общества, погруженного в апатию. 2017-й, вероятно, станет еще одним годом нарастающего кризиса. И чем уверенней российский постсоветский капитализм движется в этом направлении, тем более агрессивно его пропагандистский аппарат продолжает воспроизводить фигуру «вечного настоящего», представление самого себя в качестве синтеза всей предшествующей национальной истории.
«Вечное настоящее»: русская версия
Активная кремлевская историческая политика (подменяющая отсутствие действительной политической жизни) основана на идее борьбы за наследие, которое постоянно атакуется внешними конкурентами и внутренними врагами. Это искусственно создаваемая версия национальной истории как «пустого», мифологического времени, в котором все повторяется, а действия людей лишены самостоятельности. Существует лишь история предков — правителей и их верных поданных. Это воспроизводимая в каждом их подвиге или преступлении Россия, которая требует только верности самой себе. Такого рода верность способна оправдать любой поступок и не оставляет места для выбора.
В подобной схеме 1917 год не содержит ничего принципиально нового и сводится к уже известному паттерну: здесь так же есть козни соседних стран, нравственные силы внутреннего сопротивления, подвергаемое опасности тысячелетнее государство. Из этого сочетания может и должен быть извлечен подлинный духовный «смысл» революционной коллизии, недоступный самим участникам событий, но известный каждому нынешнему сотруднику Министерства культуры. Постижение смысла важно не только как часть наследия, но и в качестве практической инструкции по предотвращению революционных эксцессов в будущем. Революция – легитимная часть нашей истории, которая не должна никогда повториться. Такова практическая истина, которую правительство рекомендует усвоить в 2017 году. Именно в этом заключается «объективная оценка» русской революции, к которой призывал еще год назад Владимир Путин участников совещания российских историков.
Подобное стремление к «объективной оценке» соответствует самой универсальной функции идеологии, направленной на оправдание существующего положения вещей как единственно возможного. Идеология неподвижна, лишена динамики, у нее нет своей собственной истории – так как само ее значение состоит в том, чтобы намертво зафиксировать ту точку «здесь и сейчас», из которой эта «объективная оценка» становится возможной.
Если для кремлевского официоза факт революции преодолевается через полноту настоящего, утверждающего историческую преемственность, то для оппозиционно-либеральных интеллектуалов, наоборот, призрак коммунизма остается проклятием неполноты современности. Согласно антикоммунистическому нарративу, распространенному среди значительной части интеллигенции, Россия не может избавиться от своего преступного прошлого, став «нормальной страной» — т.е. безоговорочно разделив принципы идеологического консенсуса глобального капитализма. Изгнание призрака предполагается совершить через радикальное очищение – как на символическом уровне (т.н. «декоммунизацию» по модели других пост-социалистических стран), так и посредством морального «покаяния», коллективного признания ответственности за грехи прошлых поколений.
Сегодня, сто лет спустя, оба присутствующих в российском публичном пространстве подхода к революции – официально-консервативный и либерально-антикоммунистический — выглядят как два типа фарса. Официальная формула «исторической России» заменяет фальшивым спектаклем «национального примирения» подлинную драму революции, победа которой в итоге обернулась воссозданием репрессивного государства. В свою очередь, призывы к покаянию и «декоммунизации» выглядят как фарс моральной чистоты. Если власти предлагают строить новые фальшивые памятники, то ее оппоненты – демонтировать фальшивые старые. В этом виде предполагаемое очищение от фальши и двусмысленности прошлого – не более, чем двусмысленная попытка придать настоящему качество подлинности.
Так в чем же состоит это наследие? Как можно описать и принять весь объем его внутренних противоречий, плоский, неисторический подход к которым легко может привести к простому поглощению одной из двух господствующих ныне идеологических позиций?
Революция против обстоятельств
Ход событий 1917 года стал не только вызовом старому миру, но и революционному социал-демократическому движению в его прежнем виде, — движению, которое видело себя не более и не менее, чем инструментом реализации исторических законов. С момента создания II Интернационала, провозгласившего марксизм своей официальной доктриной, социал-демократы опирались на ясную прогрессистскую телеологию, в которой социалистический характер революции определяется необходимыми и неизбежными предпосылками. Общественный переворот должен быть подготовлен объективными обстоятельствами и стать разрешением противоречий, которые содержит в себе капиталистический способ производства.
Таким образом, революция, как неизбежность, прямо противоположна любому волюнтаристскому индивидуальному порыву или случайности, внешней по отношению к главному противоречию эпохи (т.е. классовому антагонизму рабочих и капиталистов). Из такого представления об истории был полностью изгнан момент непредсказуемости, своего рода макиавеллиевской fortuna, которая создавала пространство для политического выбора. Вся последовательность революционного процесса 1917 года, от стихийного петроградского восстания в феврале до большевистского переворота в октябре, помимо сочетания «объективно» данных факторов – бедности, деспотизма, изматывающей мировой войны – включала еще один, переменный: отчаяние и решительность масс так же, как и радикальную наступательную стратегию партии большевиков. Стратегии, в которой содержалось нечто большее, чем трезвый анализ ситуации и чистая страсть к обладанию политической властью.
В этом смысле русская революция была прямым и убийственным отрицанием всей предшествующей традиции марксистской политики: она была революцией в неожиданном месте и с неожиданным результатом. Этот момент «вопреки» сопровождает всю историю 1917 года, порождая надежду и удивление у европейских радикальных диссидентов внутри социал-демократии. Так, в апреле Роза Люксембург восторженно пишет о том, что революция происходит «несмотря на предательство, всеобщий упадок рабочих масс, дезинтеграцию Социалистического Интернационала»[ref]R. Luxemburg. Selected political writings (Writings of the Left). Edited and introduced by Robert Looker, NY, Random House 1972. P. 227.[/ref].
Полгода спустя в таком качестве приветствует октябрьский переворот в России Антонио Грамши, называя его «революцией против «Капитала»[ref]The Gramsci Reader. Selected Writings 1916-1935. N.-Y.: New York University Press, 2000. P. 32.[/ref]. Для Грамши Россия стала местом, где «события победили идеологию», и большевики сделали выбор в пользу событий. Уникальное сложение этих событий, предшествовавших перевороту, отвергло абсолютный детерминизм «законов исторического материализма», дав возможность массам, освободившимся от диктатуры внешних обстоятельств , самим делать свою историю. «Голодная смерть могла настигнуть каждого, поразить десятки миллионов единовременно… множество воль оказались сначала объединены этой общей причиной, чтобы затем обрести активное и духовное единство». Этот освободительный акт, согласно Грамши, означал и начало эмансипации самого марксизма, прежде «коррумпированного пустотой позитивизма и натурализма»[ref]Ibid. P. 36.[/ref]. Грамши завершал свой текст открытым призывом вернуться к истокам марксистской мысли, лежащим в «идеалистической немецкой философии».
Можно сказать, что в этом практическом обращении к классической немецкой философии революционеры 1917-го взяли от Канта не меньше, чем от Гегеля. Освободившись от «диктатуры обстоятельств» и отказавшись принимать их как чистое и неоспоримое выражение разума истории, большевики сделали моральный вопрос центральным и для судьбы русской революции, и для всей драматической истории социалистических движений XX столетия.
Несмотря на то, что главной действующей силой на протяжении 1917-го были именно сознательные рабочие, организованные в Советы[ref]Акцент на решающей роли самоорганизации петроградских рабочих, заставлявшей партию большевиков часто пересматривать их тактические установки, является важным для «ревизионистской» традиции американских историков, изучавших Русскую революцию. См., например, А. Рабинович, «Большевики приходят к власти» (М.: Прогресс, 1989) и Д. Мандель «Петроградские рабочие в 1917 году» (М.: Новый Хронограф, 2015).[/ref], цели революции и социалистический характер были результатом морально-политического решения большевиков. Так же, как русская революция не была определена простым сложением кризисных обстоятельств, задача перехода к социализму сама по себе не вырастала из динамики классовой борьбы. Напротив, она была неким новым, автономным обстоятельством, подлинным моментом кантианской «практики» — морального действия, опирающегося лишь на внутреннее убеждение в верности собственного решения. Ленинская партия приняла на себя этот моральный груз – перехода к социализму в стране, по всем определениям неготовой к такому переходу. Тяжесть этого решения будет проявляться на всем протяжении советской истории, моральная ответственность за все события которой, безусловно, имеет своим истоком принципиальное решение большевиков о взятии власти в октябре 1917 года. Более того, вопрос о такой ответственности легитимен лишь постольку, поскольку большевики сами полностью ее осознавали. Выбор сторонников Ленина изначально был основан на трагическом принятии рисков, которые несет в себе противоречие цели и средств, содержавшееся в решении о захвате государственной власти.
Наиболее точно и глубоко это противоречие было выражено Георгом Лукачем еще в 1918 году, на заре советской истории. В тексте «Большевизм как моральная проблема»[ref]Д. Лукач. Политические тексты. M.: Три квадрата, 2006. Сс. 5-14.[/ref] Лукач, выходец из буржуазной семьи и недавний ученик Вебера, предвосхищает свой собственный переход на марксистские позиции как следствие морального вызова русской революции. Согласно Лукачу, цель этой революции определяется не ей самой, но находится за пределами ее конкретного социального содержания. Она направлена не просто на победу низших классов, а на преодоление классового общества как такового. Это путь от «великого беспорядка» капитализма, отчуждения, расщепленности человеческой жизни к всеобщему благу. Такая цель является универсальной, всемирной и трансцендентной по отношению к обстоятельствам конкретно-исторической ситуации революции в России. Как писал Лукач, «конечная цель социализма является утопической в том же самом смысле, в каком он выходит за экономические, правовые и социальные рамки сегодняшнего общества и может быть осуществлен только посредством уничтожения этого общества»[ref]Там же. С. 18.[/ref].
Но если общее благо как недостижимая, высшая цель всегда выносилась за пределы оснований для морального выбора (по Канту нравственность средств определяется безразличием к цели), то большевистский переворот возвратил проблему справедливого общества в качестве неотъемлемой части морального вопроса. Конечная цель сознательного, бросившего вызов обстоятельствам, действия большевиков была связана с материализацией представления об общем благе, которое из возвышенного, постоянно ускользающего идеала должно стать достижимой действительностью, «реальной утопией»[ref]Там же. С. 72.[/ref].
Лукач переформулирует эту альтернативу примерно так: или оставаться «хорошими людьми», автономными в своей нравственности по отношению к безнравственным, несправедливым обстоятельствам, и ждать, пока умозрительное общее благо станет действительной «волей всех», либо, захватив власть, навязать этим неразумным обстоятельствам свою волю. Инструментом этой воли к общему благу неизбежно становится государство, исторически созданное для прямо противоположной цели. Нравственная проблема из индивидуальной, таким образом, превращается в субстанциальную. Государство признается злом, в котором, тем не менее, есть необходимость. Использовать государство, предназначенное для утверждения неравенства и несправедливости, для торжества равенства и справедливости – значит сознательно пойти на разрушение собственной моральной целостности, осознанно пытаясь изгнать, по выражению Лукача, «Сатану руками Вельзевула»[ref]Там же. С.10.[/ref]. В «Большевизме как моральной проблеме» Лукач еще не может полностью отождествить себя с российским ленинизмом, признавая возможность положительного ответа на поставленную им дилемму ( «может ли добро происходить из зла») исключительно как следствие «веры».
Фактически Лукач объясняет в терминах кантовской философии морали противоречие рабочего государства, которое в терминах марксистской теории было сформулировано Лениным в «Государстве и революции». Этот текст лидера большевиков был написан в августе 1917 года, накануне взятия власти. Ленин полагал, что государство, которым предстоит овладеть революционерам, уже не будет продолжением государства старого типа — то есть инструментом господства одного класса над остальными.
Напротив, ленинская «диктатура пролетариата» — это «отмирающее государство», государство с антигосударственной задачей, диктатура ради конца любых диктатур. Это сила, которую позже Вальтер Беньямин определит как «божественное насилие» — то есть насилие, снимающее условия для воспроизводства насилия как такового[ref]В. Беньямин. К критике насилия // Беньямин, В. Учение о подобии. Медиаэстетические произведения. Cc. 66-98.[/ref]. Для Ленина задача нового пролетарского государства заключалась в том, чтобы доказать собственную ненужность победившему классу, подлинный классовый интерес которого заключается в том, чтобы растворить и свое господство, и самого себя в сознательном «организованном обществе». Задача большевиков – не укрепить перешедший к ним от прежних господ государственный аппарат, но «сломать, разбить» его[ref]В.И. Ленин, ПСС, М., 1967. т.33, с.39 («Государство и революция», гл. 3).[/ref]. Следуя ленинской мысли, такое государство не должно пытаться представить себя нравственной силой, воспитателем масс, но напротив – должно убедить эти массы в том, что они больше не нуждаются в воспитателях.
Однако, принимая ответственность за создание такого невиданного прежде в истории негативного, само-отрицающего государства, марксисты осознают огромную опасность, которую оно в себе содержит. Став управляющими в пролетарском государстве, революционеры должны не переставать осознавать его как зло (пусть и неизбежное в короткий переходный период). Ведь в тот момент, когда это государство поверит самому себе и начнет всерьез исполнять роль учителя морали для пока несознательного народа, смысл его существования радикально изменится. Такое государство, осознавшее себя как добро, не только не «исчезнет», но и поглотит общество, превратившись в тотальный аппарат подавления, использующий аргумент общего блага как обоснование своей монополии на насилие.
Эти выводы, прямо следующие из рассуждений Ленина и Лукача, содержат не только пророчество сталинской диктатуры, но самое главное – основаны на осознании ответственности за саму ее возможность. Таким образом, большевистский переворот не был следствием давно знакомого, не осмысляющего себя политического инстинкта захвата власти, выпавшей из рук прежнего правительства (как часто это объясняют банальные антикоммунисты). Напротив, это был моральный выбор, противопоставивший себя прежним законам власти и политики. Выбор, в который было заложено понимание и собственного невысокого шанса на успех.
Сталинизм, — эта, пользуясь терминами Грамши[ref]А. Грамши. Партии, государство, общество. Из тюремных тетрадей.[/ref], победа «этического государства» над стремлением к «упорядоченному обществу», — стал главным свидетельством его практической неудачи. Однако даже в самых жестоких условиях тоталитарной диктатуры моральное начало большевизма, его воля к борьбе с подавляющими обстоятельствами, оставалась обратной стороной реальности революции, потерпевшей поражение. Его можно увидеть и в трагической борьбе антисталинской Левой оппозиции 1920-30 гг., и в осмыслении опыта ГУЛАГа такими писателями, как Варлам Шаламов. Сам Георг Лукач, прошедший через испытания и преследования, через сорок лет после «Большевизма как моральной проблемы», писал об «Одном дне Ивана Денисовича» Солженицына как о лучшем примере подлинного «социалистического реализма», так как истинным вопросом «реального социализма» остается моральный вопрос[ref]Г. Лукач. Социалистический реализм сегодня. А.И. Солженицын в зеркале марксистской критики.[/ref].
Однако главным текстом советской эпохи, ключом к тайне ее происхождения, нужно считать именно ленинскую книгу «Государство и революция». Она оставалась своего рода гамлетовским «призраком отца», нависавшим над советским государством на протяжении всей его истории. Упакованная в канон официальной идеологии, эта книга постоянно напоминала о ее условности, содержательно снова и снова ставя под вопрос само право государственной бюрократии на власть. Не случайно на рубеже 1950-60-х гг.. многие молодежные диссидентские группы зародились из совместного внимательного прочтения этой книги[ref]См., например, Молоствов М. Ревизионизм-58. Вайль Б. Особо опасный. Харьков, 2005. С.199.[/ref].
Эта двойственность большевизма – как нравственного выбора и действительного исторического опыта, как сознательной практики и подавляющей силы обстоятельств – составляет его наследие в принципиально неразделенном виде. Неразрешимое противоречие морали – вопрос о правильном действии индивида в неправильной, искаженной реальности – нашло в историческом большевизме попытку ответа. Попытку пусть не окончательную и потерпевшую поражение, но, возможно, пока единственную настолько серьезную и масштабную в новейшей истории.
Порядок в беспорядке
Если негативность наследия революции, его способность ставить под вопрос любые завершенные фигуры идеологии, сегодня осталась без видимых наследников, то наследие в качестве завершенной и перевернутой страницы национальной истории исчерпывающе выражено в актуальной государственной политике. Например, в следующем году нас ждет открытие памятника «примирения в Гражданской войне». Место, где он появится – «воссоединенный» в 2014 году Крымский полуостров. По словам министра культуры Владимира Мединского, будущий памятник — “зримый и мощный символ, установленный там, где закончилась Гражданская война, станет лучшим доказательством того, что она действительно закончена”.
Однако настоящим результатом уже давно свершившегося примирения революции и ее противников явилось само российское государство. Это была “третья сила, которая в этой войне не участвовала” – “историческая Россия, которая возродилась из пепла”. Согласно Мединскому, большевики, вопреки собственным антигосударственным установкам, «были вынуждены заниматься восстановлением разрушенных институтов государства, борьбой с региональным сепаратизмом. Благодаря их тяге к государственному устроительству на их стороне оказалось больше сильных личностей, чем на стороне белых. Единое Российское государство стало называться СССР и осталось почти в тех же границах. А спустя 30 лет после гибели Российской империи совершенно неожиданно Россия оказалась на вершине своего военного триумфа в 1945 году”.
Это заявление воспроизводит, пожалуй, главный консервативный тезис о революции, впервые прозвучавший более 200 лет назад — о несоответствии самосознания революции ее действительному значению. Консервативные мыслители были убеждены в способности увидеть скрытое от непосредственных акторов революции ее подлинное содержание, определяемое божественным Провидением, метафизической национальной судьбой или исторической необходимостью. Эта способность, по выражению Жозефа Де Местра, «восхититься порядком в беспорядке», помогала разглядеть в каждой победившей революции ее неотвратимое самоотрицание.
Де Местр с удовлетворением писал: «Все чудовища, порожденные Революцией, трудились, по-видимому, только ради королевской власти. Благодаря им блеск побед заставил весь мир прийти в восхищение и окружил имя Франции славой, которую не могли целиком затмить преступления революции; благодаря им Король вновь взойдет на трон во всем блеске своей власти и, быть может, даже более могущественным, чем прежде»[ref]Жозеф Де Местр, Рассуждения о Франции. Гл. 2.[/ref]. Если де Местр относил «порядок беспорядка» к пока неявленному божьему промыслу, то Алексис де Токвиль находил его в воспроизводстве революцией тех форм организации, против которых она, казалось бы, была направлена. Французская революция «породила новую власть, точнее, эта последняя как бы сама собою вышла из руин, нагроможденных Революцией»[ref]А. Де Токвиль Старый порядок и революция. Спб., Алетейя, 2008. С. 20.[/ref]. Согласно Токвилю, убрав все отжившее, революция завершила дело создания централизованного бюрократического государства, начатое абсолютизмом Бурбонов.
Следуя этой логике Токвиля, можно сказать, что существующая сегодня французская республика через преемственность и развитие государственных форм в равной степени наследует и Старому порядку, и свергнувшей его революции. Пропасть между ними является не более, чем элементом революционной мифологии, разделяющей нацию. Это квазирелигиозная, милленаристская вера в способность людей своим сознательным усилием отвергнуть старый греховный мир и воплотить живущее по совсем иным законам Царство Божие на земле. Нация, расколотая революцией, может осознать свою общую продолжающуюся историю и преодолеть свое внутреннее разделение лишь тогда, когда сообща похоронит разрушительную революционную религию. В этом духе накануне 200-летнего юбилея последователь Токвиля, историк Франсуа Фюре призвал к завершению Французской революции через прощание с порожденными ей иллюзиями. История революции не завершена, пока живет созданная ей политическая традиция, основанная на мифе[ref]Ф. Фюре. Постижение Французской революции. СПб., “ИНАПРЕСС”, 1998.[/ref].
Вполне в соответствии с этим консервативным подходом, в сегодняшней России ментальное завершение Гражданской войны и революции возможно через полный отказ от иллюзий, двигавших их участниками. Отвержение революционной амбиции создания нового мира способно открыть нам подлинный смысл событий столетней давности, разглядеть невидимых за туманом самосознания эпохи контуры вечного государственного организма.
На пути к «исторической России»
Тезис Мединского о «третьей стороне» революционной коллизии — «исторической России» — победа которой в результате воплотилась через советское постреволюционное государство – сегодня, пусть и в бюрократически-вульгарном, упрощенном виде, наследует представлениям течения «сменовеховцев» 1920 гг. Его идеологи – такие, как Николай Устрялов и Юрий Ключников, — также видели в Советской России продолжение и развитие тысячелетнего русского государства, логика которого оказалась глубже и сильнее интернационалистической перспективы большевиков.
В статье «В Каноссу», опубликованной в программном сборнике «Смена вех» (вышедшем в Праге в 1921 г.), один из его авторов, Сергей Чахотин писал: «история заставила русскую «коммунистическую» республику, вопреки ее официальной догме, взять на себя национальное дело собирания распавшейся было России, а вместе с тем восстановление и увеличение русского международного удельного веса»[ref]В Каноссу. Политическая история русской эмиграции. 1920–1940 гг. Документы и материалы. М., 1999. С. 190–195.[/ref]. Более того, как полагали «сменовеховцы», сама победа революции осуществила внутреннюю необходимость русской истории, преодолев «пропасть между народом и властью». Ее высокой трагической ценой, по мнению Устрялова, «оплачивается оздоровление государственного организма, излечение его от длительной, хронической хвори, сведшей в могилу петербургский период нашей истории»[ref]Н. Устрялов. Россия (У окна вагона).[/ref].
Сквозь зигзаги политики большевиков, обусловленные противоречием между коммунистической идеологией и реальностью, Устрялов увидел торжество «разума государства», проявляемого по ту сторону права. Фактически приближаясь к известному понятию «чрезвычайного положения», сформулированному Карлом Шмиттом, Устрялов рассматривал русскую революцию как своего рода триумф духа государства через попрание его буквы[ref]Н. Устрялов. Понятие государства.[/ref].
В каждом шаге, который большевики старались рассматривать как вынужденный – ограниченном признании рынка через НЭП или временном отказе от мировой революции во имя «социализма в одной стране» — «сменовеховцы» видели закономерность и неизбежность. «Ленин, конечно, остается самим собою, идя на все эти уступки, — писал Устрялов. – Но, вместе с тем, несомненно, «эволюционирует», т. е. по тактическим соображениям совершает шаги, которые неизбежно совершила бы власть, враждебная большевизму. Чтобы спасти советы, Москва жертвует коммунизмом»[ref]Н. Устрялов. Patriotica. “Смена вех”. Прага, 1921.[/ref].
Большевики, взяв бремя государственной власти и рассматривая ее как опасный с моральной точки зрения инструмент (используя «Сатану против Вельзевула», по выражению Лукача), стали превращаться в его агента. Их революционная практика, предпринятая извне государства, пыталась подчинить его задачам антигосударственного и освободительного морального порядка. Но диктатура пролетариата постепенно свелась к качеству диктатуры бюрократии над пролетариатом. Под воздействием обстоятельств средство одержало победу над целью Можно сказать, что революционное кантианство (действие вопреки обстоятельствам) большевиков проиграло консервативному гегельянству, представленному сменовеховцами (то есть новые революционные власти подчинились духу национального государства вопреки своим произвольным намерениям).
Возрождение России, согласно «сменовеховцам», требовало участия лучших сил патриотической интеллигенции, оказавшихся в эмиграции после окончания Гражданской войны. Способность большевиков принять эту протянутую руку было частью морального вопроса, поставленного событием 1917-го: можно ли привлечь к управлению государством тех, кто стремится его укрепить, а не разрушить?
В специальной резолюции, принятой на XII конференции РКП(б) (август 1922 года), утверждалось, что «так называемое сменовеховское течение до сих пор играло и еще может играть объективно-прогрессивную роль. Оно … сплачивает те группы эмиграции, которые «примирились»с Советской властью и готовы работать с ней для возрождения страны»[ref]Резолюция «Об антисоветских партиях и течениях» Всероссийская конференция РКП(б). Постановления и резолюции. М., 1922.[/ref].
Важно, что «сменовеховцы» не капитулировали, признавая историческую правоту новой власти, а, напротив, открыто говорили о том, что она сама вынужденно капитулирует перед своими собственными принципами. Они были не просто попутчиками, но носителями иных убеждений, воплощенной “правдой классового врага”, необходимой для оценки собственных сил в поворотный исторический момент. Это был тест революции на верность самой себе.
Анатолий Луначарский характеризовал «сменовеховцев» как людей «из более или менее правого лагеря, т.е. отнюдь не зараженных нелепыми демократическими предрассудками», которые «поднялись даже в эпоху своей контрреволюционной работы до настоящей широты общественной и государственной мысли». Они увидели, что большевики «не только не растранжирили Россию, но и за совершенно ничтожными исключениями объединили территорию бывшей империи в виде свободного союза народов». Делая этот политический реверанс, Луначарский, конечно, оговаривался, что надежды этой части правой интеллигенции на перерождение советского режима напрасны. Тем не менее, он от имени большевиков декларировал готовность принять вызов этого «настоящего, подлинного буржуазного патриотизма», представлявшего «остаток жизненной силы индивидуалистических групп и классов»[ref]А. Луначарский. Смена вех интеллигентской общественности.[/ref].
В такой открытости перед вызовом «сменовеховства» было нечто большее, чем инструментальный политический расчет. Это было ясное сознание большевиками возможности своего Термидора, победы обстоятельств над принципами, политики над моралью. Герои русской революции, пытаясь предсказать судьбу, часто примеряли на себя одежды французской революции. Более того, 1917-й год осуществлялся, исходя из знания о трагедии 1794-го, — знании о расколе между «данным и сущим», между представлением революции о ее нравственной цели и действительным трагическим поражением.
Непрозрачность наследия
Возможность появления Сталина – пролетарского Бонапарта, как самоотрицания революции и возрождения старого тиранического государства в новой, подавляющей своей тотальностью форме, – была частью осознанного морального решения большевиков в момент, когда они решили овладеть государственной властью.
Именно в этом, по большому счету, состоит сложность наследия Русской революции, лишенного видимых наследников. Его значение – не в том, чтобы поднять выпавшее знамя, обозначив простой тип политической преемственности. Жак Деррида писал когда-то о марксистской традиции: «Если бы смысл наследия представлял собой некую данность, нечто естественное, прозрачное и однозначное, если бы он не требовал интерпретации и не разрушал ее в одно и то же время, то наследовать было бы нечего. С наследием нас связывала бы тогда причинно-следственная связь естественного или генетического типа. Между тем, мы всегда наследуем некоторую тайну — говорящую нам: «прочти меня, если сможешь, а сможешь ли вообще?»[ref]Ж. Деррида Призраки Маркса. М., 2006. С. 32.[/ref].
Вопрос о наследии русской революции составляет тайну силы события, которое не может быть очищено от истории своего последующего перерождения и предательства. Но именно в самой невозможности такого очищения состоит чистота его моральной силы, способность к действию, предполагающему свой ничтожный шанс на удачу.
Английская версия этого текста подготовлена для книги «Cosmic Revolution: Russian Contemporary Art Writing», которая выйдет в издательстве Sternberg Press and e-flux, London, 2017
Илья Будрайтскис — публицист, исследователь.
]]>
Что-то происходит сейчас в России. Без видимых причин в течении последней недели мы стали свидетелями шумной дискуссии о свободе художественного высказывания. После выступления режиссера Константина Райкина о возвращении цензуры и предчувствии нового сталинизма его опасения поддержали режиссер Андрей Звягинцев, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, телеведущий Владимир Познер, актер Евгений Миронов и многие другие. О солидарности с Райкиным заявил в коллективном обращении «Конгресс интеллигенции» с десятками подписей знаковых культурных деятелей и правозащитников.
С основным содержанием этих высказываний сложно не согласиться: маргинальные правые группы не должны громить выставки, а чиновники из Министерства культуры не могут давать деньги лишь тем, кто соответствует их ограниченным представлениям о «государственном интересе».
Однако в происходящем сложно не заметить элемента управляемости.Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков почти сразу, по следам речи Райкина, выразил уважение к его таланту и засвидетельствовал отсутствие цензуры (а следовательно, возращения сталинских времен) в России.
Многие журналисты принялись некритически воспроизводить примерно такую схему: есть интеллигенция, сказавшая правду власти в лицо; есть обскуранты и враги перемен во главе с лидером байкеров Хирургом и его другом Рамзаном Кадыровым; наконец, есть власть, в ситуации международной изоляции и экономического кризиса медленно, но верно осознающая необходимость таких перемен. И вот кто-то уже произнес слово «Оттепель» — ведь и тогда все интеллигенция, с Театром на Таганке и журналом «Новый мир», шла в авангарде событий.
Существует убедительная версия о том, что новая «Оттепель» является частью плана декоративной либерализации, разработанного в Администрации президента (и связанного приходом нового ответственного за внутреннюю политику Сергея Кириенко).
Однако, если такой план существует, он может оказаться успешным лишь постольку, поскольку задействует этическую функцию тех, кто отвечает за воспроизводство культуры и публичной сферы в России. Это узкий слой журналистов, деятелей культуры и просвещенных культурных функционеров, консолидированная позиция которых заменяет в России общественное мнение в полном смысле этого слова. Конечно, нельзя обвинять в таком положении дел лишь самих деятелей культуры мотивы которых могут быть вполне искренними. Скорее, это результат сочетания многолетней стратегии манипуляций сверху и потребности деполитизированного, апатичного общества в моральных авторитетах.
И всякий раз, когда рядовой интеллигент ( например, школьный учитель или врач) переживает кризис доверия официальной пропаганде, чувствует свою неспособность разобраться в информационном потоке и потребность ощутить себя хорошим человеком, то находит на месте учителя морали и голоса собственной «большой совести» таких людей, как Познер, Макаревич или теперь неожиданно – Константин Райкин. Причины, по которой именно их имена связаны с нравственным законом, непознаваемы на фактическом уровне: большинство из них не страдали за свои убеждения, не испытывали серьезных гонений, и даже не писали философских текстов об этике. Более того — карьеры таких людей, как многолетний штатный пропагандист брежневского периода Владимир Познер, дают впечатляющие примеры цинизма и морального релятивизма.
Впрочем, их реальные действия не имеют значения (а именно это, как известно, удостоверяет истинность морального убеждения). Гораздо важнее виртуозность и убедительность актерской игры, исполнение роли морального авторитета ( или, как говорят в России, «порядочного человека»). Именно такого рода театральный талант позволяет создавать эффект «изменения в атмосфере» общества – даже если на самом деле ничего не изменилось.
Безусловно, сегодня России нужна творческая свобода и демократические права. Но эта глубокая потребность не должна быть превращаться в объект для манипуляций сверху. Рассуждения о морали, отделенные от общего блага, — то есть от равенства прав и социальной справедливости — становятся не более, чем идеологическим туманом, сознательным затемнением действительного положения вещей. Они лишь умножают иллюзии возможности перемен к лучшему, осуществляемых политиками без участия общества.
На английском заметка будет опубликована в блоге Jordan Center
Илья Будрайтскис — публицист, исследователь
]]>