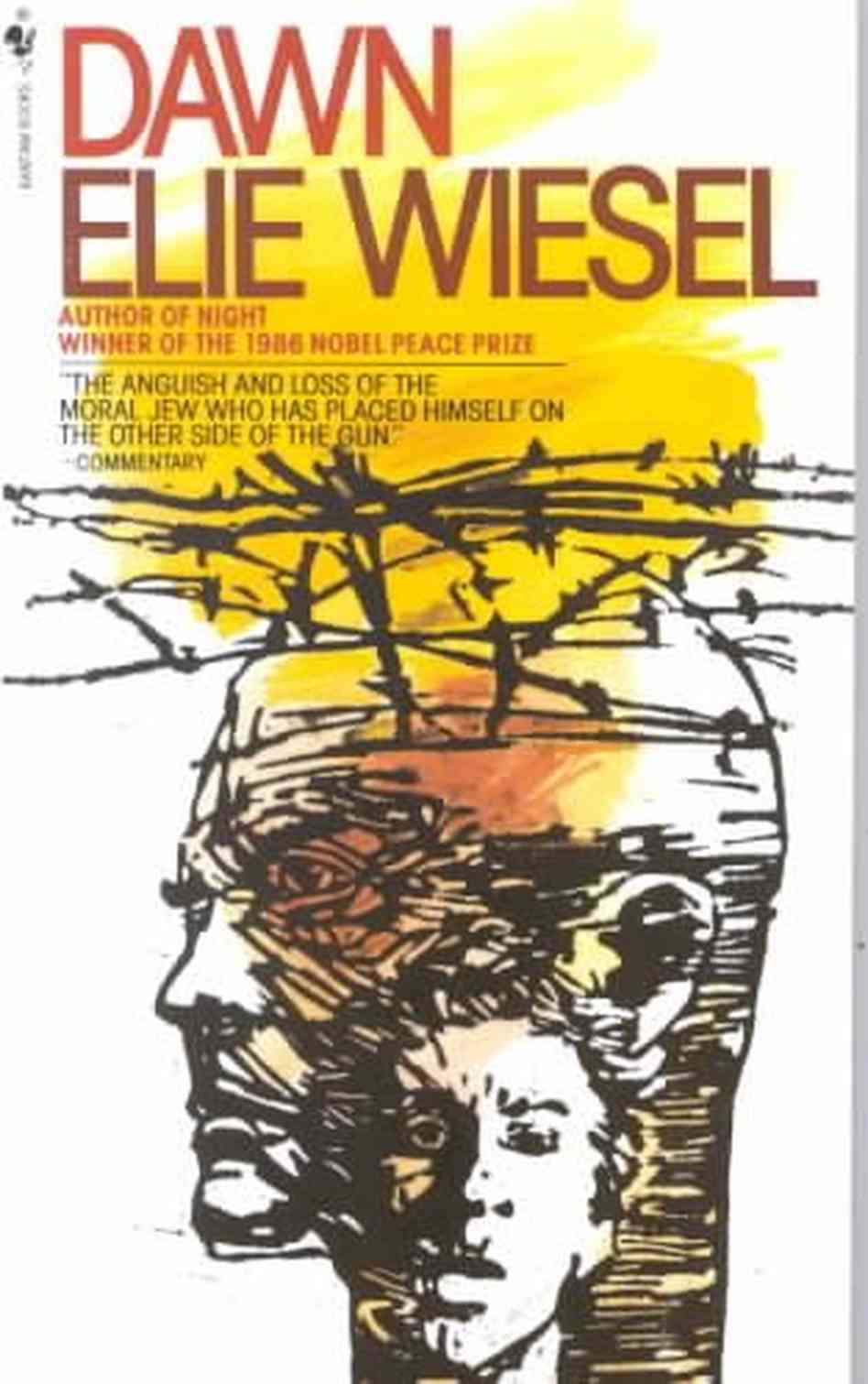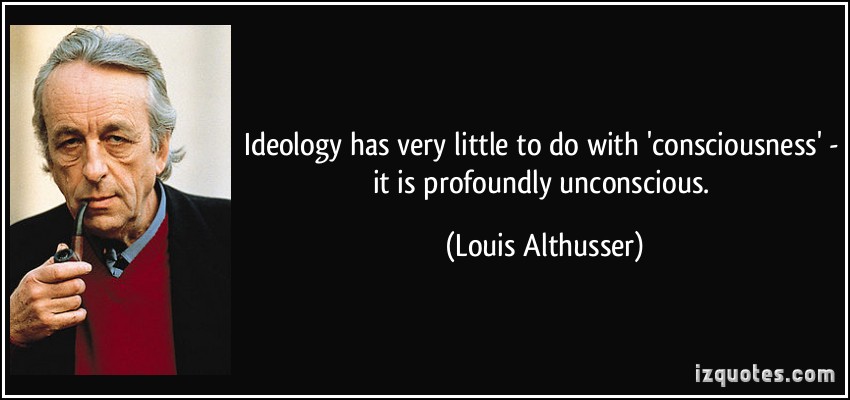Мода на рафинированную и не очень ненависть к white trash, т.е. к белой голытьбе, давно перестала быть отличительной чертой американской массовой культуры и приобрела все свойства глобального мейнстрима. Среди заметных адептов моды на стеб над «бедными белыми» – тандем Сергея Шнурова и Анны Пармас: их последние клипы воспроизводят как традиционные, так и недавно освоенные приемы, усиливающие пренебрежительное отношение к бедным в пользу утверждения превосходства белых особей мужского пола.
С момента своего возникновения в конце первой трети XIX в. мем white trash сопровождался гротескным юмором. Шутки на эту тему исходили от двух целевых групп: от привилегированных рабов-афроамериканцев, которые, по мнению некоторых исследователей, и ввели концепт white trash в словоупотребление, и от новоамериканской аристократии, которая начала активно использовать это выражение как уничижительное по отношению к новой элите американского севера после поражения в войне Севера и Юга. Изначально юмор вокруг white trash носил дисциплинирующий характер, выставляя непотребное, постыдное и недостойное смешным. Вместе с тем уничижительное отношение к бедным белым было непосредственно связано с потребностью закрепить ускользающие стандарты «джентльменов» и «леди», в особенности там, где отсутствовала многовековая история цивилизационного процесса. Неслучайно именно нетерпимость к белой голытьбе обозначают как «расизм, вывернутый наизнанку», т.е. направленный не против другой расы, а против тех, кто своим поведением якобы дискредитируют белых.
В иерархии whiteness, которая до сих пор лежит в основе американского цивилизационного проекта, white trash позиционируется как источник многих проблем. Ряды этой касты неприкасаемых, как и сто лет назад, пополняются за счет смешения этносов. Одним из первых научных лонгитюдов в этой области был проект US исследовательского института Eugenics Records Office, основанного Чарльзом Давенпортом, поддержанный Национальной Ассоциацией женских клубов, который в течение 30 лет, с конца XIX в. и до конца Первой мировой войны, собирал фамильные деревья «белого мусора» в нескольких американских штатах[ref]Nicol Hahn Rafter White trash the eugenic family studies 1887-1919 Boston Northeastern university press 1988[/ref]. Их исследования не остались достоянием исключительно академического дискурса – напротив, благодаря публикациям результатов этого исследования в массовой культуре закрепились ярлыки, по сей день присваиваемые ирландцам, евреям, грекам и итальянцам, т.е. всем тем, кто в определенных обстоятельствах воспринимался верхними слоями общества как отличный от белых[ref]https://en.wikipedia.org/wiki/The_Kallikak_Family это пример такой популяризации, причем там еще популярный мем Kallikak – от двух греческих слова, красивый и плохой, его потом использовали в массовой культуре, один из последних таких отголосков — комедия «Моя большая греческая свадьба».[/ref]. Даже работая в жанре anti—white trash, американские производители кино, поп-музыки и рекламы обращались к клише «белого мусора» ради популярности производимого контента. Чтобы выдержать конкуренцию с новостными каналами и моралистическими кампаниями в социальных сетях, сценаристы и режиссеры изобретали все новые и новые уловки для того, чтобы реанимировать интерес к жанру anti—white trash. Именно поэтому для массовой культуры white trash перестал репрезентировать определенные социальные группы, закрепившись в качестве комплекса устойчивых культурных ожиданий.
Легкость адаптации: anti—white—trash в постсоветском контексте
Примечательно, что американская литература, воспроизводящая паттерны и клише anti—white—trash («Хижина дяди Тома», «Убить Пересмешника», «Унесенные ветром» и др.) не только беспрепятственно попадала в библиотеки советских читателей, но и заслужила такую же любовь, как и среди добропорядочных американцев. Примечательно и то, что систематические попытки противостоять соблазну гламурного презрения по отношению к бедным белым оставались и остаются на периферии внимания советской и постсоветской публики. В 1920 гг. культивация нетерпимого отношения к бедным белым становится модным трендом и в Европе. Именно тогда пионер крестового похода против white trash «по-русски» Михаил Булгаков пишет «Собачье сердце». Повесть не только соответствует канонам американской евгеники с ее нетерпимостью к пауперизму, но усиливает градус остракизма по отношению к белой голытьбе, задействуя жанр антиутопии и используя политическую сатиру. По Булгакову, white trash в полной мере проявляет свою деградацию, а значит и угрозу цивилизации, именно когда добивается власти. Анимализация «белой швали» за счет ее сравнения с беспородной псиной (!) форсировала общую нетерпимость. Евгенические клише, освоенные Булгаковым в конце 20-х, не только не устарели, но спустя 60 лет обросли историческими коннотациями. При этом запрет, наложенный на книгу советской цензурой, придал роману Булгакова канонический статус, делая его фактически недосягаемым для неофициальной критики. Казус Шарикова, показанный Владимиром Бортко в фильме 1988 г., и вовсе свел исторические коллизии советской постреволюционной истории к траектории «от пса к красному комиссару и обратно». Носители истинной белизны – профессор Преображенский и его благородный помощник Борменталь – загнали потенциально неуправляемую белую шваль туда, где ей положено находиться. В «Собачьем сердце» можно с легкостью обнаружить множество атрибутов anti—white trash идентичности, освоенной постсоветской поп-индустрией.
Нетерпимость к белой голытьбе эксплуатировалась самыми разными жанрами – от киноэпопей о разборках с бандитами (т.е. самой что ни на есть белой швали!) до семейного сериала «Моя прекрасная няня» (калька американского сериала «The Nanny»). Последний приписывал современной Золушке не только слабость пола, а значит и ума, но также и бедность, безвкусицу и этническую принадлежность, сомнительную для успешного белого мужчины, выступавшего в роли работодателя и олицетворявшего предел матримониальных мечтаний. Российская аудитория вошла во вкус и стала с растущим аппетитом поглощать токсичные шоу и сериалы от «Симпсонов» до «Женатых и с детьми». Но ни западный продукт, ни его отечественные копии не могли обеспечить требуемый аудиторией баланс между нормой и ненормальностью, соответствующий ситуации, т.е. отражающий отношение к новым элитам (кошмару интеллигенции, «белой голытьбе при бабках»). Как и западная массовая культура, отечественная индустрия использовала популярную схему white trash мифологии – противопоставление социально одобряемого поведения «нормального» мужчины поведению женщины, репрезентируемой в качестве не вполне нормальной, или даже девиантной, в особенности из-за своей сексуальности – потенциально или действительно неуправляемой.
Искушение дисциплинарным юмором: white trash vs. женская сексуальность
Сексизм современной anti-white trash культуры оказался золотой жилой для тандема Шнура и Пармас. Шнур и ранее экспериментировал с темой женской сексуальной озабоченности, умилительно-потешной, как в клипе на песню «Мои хуи», или провоцирующей злорадство – как в «Сумке». Однако потенциал историй о бедных белых девочках – вульгарных дурочках, пребывающих в плену собственных фантазий и оттого лишенных способности видеть себя со стороны, был полностью реализован только в сотрудничестве с Анной Пармас. Неслучайно до ангажемента Шнуровым Пармас писала сценарии к романтическим комедиям, явно адресованным женской аудитории.
Клипы «ВИП» и «ЗОЖ» были пробой пера и трамплином для тандема, прощупывающего почву на предмет реакции аудитории. Оба клипа – авторские, максимально раскрывающие культурный бэкграунд Пармас и ее подход к работе с материалом, полученным от автора песен. Клип «ВИП» изобилует отсылками к постсоветской культуре white trash и заигрывает с западными хитами. Нарратив намекает на историю «Ромео и Джульетты»: героя зовут Ромой, первый диалог повторяет разговор влюбленных из знаменитой киноадаптации пьесы Базом Лурманом в 1996 г., а сцена на балконе представляет собой микс ментовских сериалов с позднесоветской чернухой. Атмосфера видеоролика напоминает не столько VIP, сколько ретро, но этого оказалось недостаточно. В клипе «ЗОЖ» нет и намека на прошлое, зато есть много смертей для ценителей trash horror, а также четкое послание – отказ от стерильности новомодных идеалов, из-за которых гибнет цвет нации – мужики, внезапно бросившие пить. Нехитрая мудрость утверждалась троицей санитаров скорой, которые больше всего походили на врачей-носителей смерти, с именами мойр из «Бессоницы» Стивена Кинга. «ВИП» и «ЗОЖ» – занятные коллажи, апеллирующие к ценностям разных аудиторий. Они не только привлекли внимание публики, но и утвердили определенную диспозицию работы с контентом – неспешный, повторный просмотр, обеспечивающий радость понимания, узнаваемость происходящего на экране. Так выработанный способ тешить зрительское самолюбие стал фирменным приемом тандема.
«Экспонат» вывернул наизнанку не только историю о Золушке, но и самые разные нарративы, знакомые не одному поколению (пост)советских зрителей: привычный для советской чернухи конфликт отцов и детей, связанный с отношением к войне и блокаде, бесчисленные истории и игры в «дочки-матери» и т.д. Сеанс разоблачения девичьих ухищрений четко противопоставлял наивную в своей ограниченности дурочку и вполне успешного, но скучающего молодого карьериста. Неопределенность будущего героини возвещает не столько открытый финал, сколько тот самый коридор, свет в конце которого означает триумф объективации, необходимость подчиниться условностям или примириться с собственным люмпенством. Какими бы разными ни казались такие сценарии, в их основе остается дисциплина женщины, гарантирующая ее подчинение, в том числе сексуальное. И юмор «Лабутенов», в отличие от «ВИП» и «ЗОЖ», был последовательно дисциплинирующим, стигматизирущим женское поведение как «смешное до неприличия».
Следующие клипы, «В Питере пить» и «Сиськи», добавляли не красок, а «отбеливателя». Пятеро лузеров, разгуливающих по Питеру, напоминает персонажей «Волшебника страны Оз», ищущих (и находящих) свой Изумрудный город – Питер с его туристическими достопримечательностями, Кроме оригинальной сказки клип можно сравнить с лайт-порно пародией «Not The Wizard Of Oz XXX» Уилла Райдера (2014), которая получила несколько призов на ежегодном конкурсе фильмов для взрослых, в т. ч. и за режиссуру. Как и в мюзикле для взрослых, в клипе «В Питере пить» женские персонажи самостоятельны только в момент перехода от одного состояния несвободы к другому. Ни один из персонажей-мужчин свою внезапно обретенную свободу не теряет – наоборот, каждый придает празднику жизни новые радостные обертоны, в то время как женщины на этом торжестве мужской независимости выступают в роли трофеев. Героиня «Сисек» тоже относится к себе как к трофею – ее переживания колеблются от уязвленности до польщенности, и амплитуда этих колебаний на самом деле не шире, чем у груши для бокса, от удара которой героине не увернуться. Мужчина, будущий обладатель героини, находится в центре «Тайной вечери», тем самым вписываясь в мем высокого, белого искусства, придающего значимость мужским персонажам Симпсонов, и Клану Сопрано, и многим другим поп-явлениям. Фиксируя камеру то на груди, то на ягодицах, «Экспонат» и «Сиськи» остаются порнографичными даже тогда, когда якобы смеются над тем, как неистово сами женщины сводят свое «я» к размеру и привлекательности этих частей тела. Между образом женщины, чье тело словно подлежит разделке на куски лучшего и худшего «мяса», и сакрализированным образом мужчины, чья цельность не вызывает сомнений, возникает разительный контраст.
Самый свежий клип Шнура сотоварищи называется «Экстаз» и осваивает совсем другие паттерны – те самые, что на Западе принято относить к феминистскому порно. Это модели поведения, предписывающие женщинам не только инициативу, но и отсутствие потребности оправдывать свой сексуальный интерес возвышенными чувствами. И хотя начало клипа один в один повторяет хрестоматийный порно-сюжет «баба ищет приключений в автосервисе», обыгранный еще Билли Джоэлом в клипе на песню «Uptown Girl», история развивается куда более замысловатым образом: героиня сама решает, как и с кем она будет заниматься сексом. Вместе с тем ее поведение предполагает не только приписываемые мужчинам сексуальный аппетит и решимость, но и стремление во чтобы то ни стало романтизировать отношения для оправдания собственной распущенности. И вот от игры в жанр gender-fuck в клипе не остается и следа. Именно тогда, упиваясь романтизмом, циничная, взбалмошная, невоздержанная героиня оказывается все той же дурой из Лабутенов – развлечением в руках мужчин. Как и «В Питере пить», в «Экстазе» мужчины от начала и до конца защищены панцирем «нормальности».
За последние десятилетия постсоветские зрители стали такими же искушенными потребителями культуры anti—whitе-trash, как и американцы. Интертекстуальные связи, которые множатся внутри поп-культуры, – один из ее главных ресурсов. «Умелое» пользование этим ресурсом обеспечивает клипам тандема Шнур-Пармас соответствующую популярность. В одном из своих последних интервью Линн Дюк, афроамериканская журналистка, отметила, что white trash давно перестал быть социальной или экономической характеристикой, превратившись в определенное и весьма распространенное состояние сознания. Свобода и эмансипация сексуальных отношений при таком состоянии по силе явно уступает искушению дисциплинарного юмора, обещающего удовольствие от иллюзий. Желание погрузиться в неиссякаемый поток удовольствия делает потребителя культуры управляемым и зависимым от порций интертекстуального отбеливателя, хотя бы от группы «Ленинград». Культура white trash стала ловушкой, попытка выпутаться из которой оборачивается игрой, неизбежно превращающей самых рьяных борцов за «белизну» в белую биомассу. Увы, внутренний двигатель этой ловушки-игры пока еще только набирает обороты.
]]>
Искусство формального исполнения ожиданий от референтной группы, в котором упражняется белорусская публичная сфера, становится все изощренней и интереснее. Все политические акторы, и властные и оппозиционные, в той или иной степени играют и для международных доноров, и для народа. Кампанию по выборам в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва, которая завершилась 11 сентября, иначе чем состязание таких перформансов и не назовешь, и не поймешь. Оппозиция предупреждала избирательные комиссии о том, что будет наблюдать и деятельно искать случаи фальсификации, устраивая акции в белых перчатках. Но, когда фальсификация случилась, то жалоб от кандидатов в Избирком в надлежащий срок было подано всего 10. Из-за того, что оппозиция запамятовала выставить своих наблюдателей на участки, где победили две представительницы оппозиции, теперь и самим кандидаткам сложно понять, до какой степени были сфальсифицированы их собственные победы.
Нет сомнений, что власть выиграла это состязание, сумев разом, «по-честному», и обеспечить присутствие оппозиции, и усилить участие женщин в законодательной власти. Две кандидатки, которые представляли разные политические альтернативы — Анна Канопацкая (правоцентристкий блог и партия ОГП), и Елена Анисим («Общества беларусского языка имени Франциска Скорины» или иначе «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (далее ТБМ)), — по официальным данным, победили. В этих победах много общего – в первую очередь, это то, как политический капитал, который накапливают активистки, оказывается малополезным для формирования и продвижения гендерной повестки, и как легко он отчуждается другими. И Анисим, и Канопацкая вписываются в идеал «настоящей» белорусской женщины – Елена мать троих сыновей, а Анна – двоих «замечательных детей», обе женственны и привлекательны. В будущем политическом сезоне оппозиционным дебютанткам отводятся существенно разные роли – и совсем не статисток.
Габитус Елены Анисим: язык, патриотизм и диссидентство
Елена Анисим приобретает известность как ведущая программы «Беларуская мова» на центральном канале белорусского телевидения ОНТ – в начале 2000-х гг. Как фигура публичной политики Елена Анисим стала известна в 2014 г. после публикации статьи «Как и 500 лет назад Беларусь снова стоит перед историческим вызовом. Как ответим?» в газете Народная Воля, написанной совместно с Олегом Трусовым, руководителем движения ТБМ. Примечательно, что в информации об авторах было указано, что они — граждане Республики Беларусь. В период выдвижения кандидатур на президентские выборы 2015 г. Елена Анисим была одной из первых, кто изъявила желание участвовать в кампании – в конце ноября 2014 г. кандидатура Елены на пост Президента РБ была поддержана Радой белорусской интеллигенции[ref]Площадка белорусской оппозиции, заявляющей своей целью определить «единого кандидата от демократических сил».[/ref]. В конце июня 2015 г. Анисим отказалась от выдвижения. В 2016 г. она была выдвинута в качестве кандидатки в депутаты Палаты представителей, и выиграла парламентские выборы.
Елена – заместитель председателя ТБМ, одной из крупнейших негосударственных организаций страны, которая с 1996 г. продвигает интересы белорусского языка, истории, самосознания. ТБМ активно использует различные технологии политической адвокации[ref]Адвокация — кампания, воздействующая на государственные учреждения, направленная на представительство и защиту прав и интересов определённой социальной группы, чаще всего — принятие законов.[/ref]: разрабатывает законопроекты и планирует использовать методику strategic litigation, обращения в суд с целью создания прецедента, например, о необходимости обучения на белорусском языке. Такая стратегия располагает организацию к активному взаимодействию с разными политическими силами. Несмотря на последовательную критику государственной политики в отношении белорусского языка, лидер движения Олег Трусов был приглашен участвовать в Общественно-консультативном совете при Администрации Президента Республики Беларусь (2009). Вместе с тем, Олег Трусов активно сотрудничал и с оппозиционными движениями, БНФ и БСДП, на этапе их создания.
Как и Анисим, Трусов выдвинулся в качестве кандидата в Минске (по 96 округу) от партии БСДП Грамада. Официально его результат составил 4% голосов. При этом официальный результат Анисим превысил 40%, по 70-му Столбцовскому округу (Минская область), малой родине Анисим, а по ее личным утверждениям – 75%. Нет сомнений, что Анисим более узнаваема населением, особенно в регионах, чем Олег Трусов. В чем же состоит публичный успех Анисим?
Елена Анисим весьма последовательно выстраивает свой публичный политический нарратив. В ее интервью и выступлениях постоянно звучит тема ее диссидентского прошлого. В советское время Анисим была активной участницей подпольного сообщества «Майстроўня», принимала участие в работе Федерации профсоюзов Беларуси, когда председателем был В.И.Гончарик (1986 –2001). Также она представляет себя как ученую-лингвистку, что делает ее обладательницей солидного институционализированного культурного капитала. Действительно, с 1991 г. Елена – сотрудница Института языкознания Академии наук. В начале 2000 г. она участвовала в издании историко-филологической монографии, посвященной белорусскому языку. Вместе с тем с 2003 г. на информационных ресурсах Академии нет свидетельств научной деятельности Анисим. Косвенно, формальная значимость профессиональной позиции подтверждается и послевыборными заявлениями о готовности уйти из Академии ради работы депутаткой.
Елена – патриотка не только страны, но и региона, откуда она родом, и по которому она и выдвигалась в депутаты Палаты представителей. В своих выступлениях она подчеркивает, что по укладу своей жизни она совсем не жительница столицы. В известном смысле, Анисим монополизирует культурный и лингвистический капитал идеи продвигать белорусский язык. Ни Татьяна Короткевич (лидер движения «Говори правду»), ни лидеры БНФ (Беларусский народный фронт), которые пытаются продвигать свой имидж, в том числе, и посредством поддержки белорусского языка, не получают от этого таких политических дивидендов, которые имеет Елена Анисим. С этой монополией на лингвистический капитал резонирует и последовательность, с которой Анисим феминизирует свой образ в публичном дискурсе.
Настоящая женщина: между клише матери народа и женщиной-оратором
Можно говорить о существенной динамике в имидже Анисим в период президентской кампании 2014-2015 гг. и в ходе кампании парламентских выборов в 2016 г. В 2014-2015 гг. Елена последовательно позиционировала себя как женственную женщину, преданную семье и семейным обязанностям. На вопрос журналиста «Радио Свободы», феминистка ли она, Елена ответила: «Ни в коем случае, я человек, я женщина. Я выросла в мужском окружении. У нас в семье у родителей было трое детей, два сына и я меньшая дочушка. У меня в семье три сына и я сама живу в согласии и равновесии с мужчинами…».
В своих интервью в период обсуждения ее выдвижения в кандидатки в президенты Елена много внимания уделяет рутине семейной жизни: расходам семей, качеству продуктов (например, тому, что литовские свинина и сыры намного вкусней и дешевле белорусских, и что в этом вина бизнесменов, которые думают только о выгоде). Cоответствующими были и фотографии Елены. Анисим связывала свою истинную женственность с патриотизмом, например, делясь тем, что «я не езжу за границу – я патриот и люблю белорусское».
Тема роли «настоящей» женщины в жизни страны последовательно развивалась и относительно участия в политике: «Есть такой стереотип, что политика — грязное дело. Как женщина я люблю чистоту, и мне хочется в эти политические игры привнести чистоту. А она возможна там, где есть правда.». Завершающим штрихом к образу женственной, «честно-наивной» женщины стало то объяснение, которое Анисим привела в пользу отказа от участия в президентской гонке: «Я понимаю, что в данной ситуации победу получить невозможно, а я привыкла достигать успеха в любом деле, за которое берусь». Можно предположить, что публичное внимание, которое Елена привлекла к себе и своему движению, вместе с последовательным имиджем домовитой и аккуратной хозяйки сыграло не последнюю роль в том, что в отличии, например, от Татьяны Короткевич, она не вызвала раздражения – ни в период президентской кампании 2015 г., ни выборах в Палату представителей. Наоборот, среди мужчин-политиков утвердилось мнение о ней как о мудрой женщине.
Кампания 2016 г. отодвинула тему женственности на периферию публичного образа Анисим. В своем обращении к избирателям Елена делает акцент на необходимости вернуться к истокам развития белорусского народа, в том числе, тому как развивался парламент до 1996 г., — «представлял интересы народа». Свою роль Анисим видит в сплочении национального движения: «Это течение в потенциальном плане очень сильное, но размытое в плане организационном. Именно потому, что на политическом поле нет четко очерченной национальной силы, а она должна там быть, я и дала согласие опираться на национально ориентированное течение. Даже если оно сегодня не очень сильное, его можно и нужно объединить». В лучших традициях националистических движений конца 19 в. Анисим в первую очередь рассчитывает «на нашу элиту и определенные круги в государственных органах власти».
Вместе с тем, Анисим продолжает подчеркивать, что она – «настоящая» женщина. В программе по итогам выборов «Дело принципа: Выборы-2016» Анисим в некотором роде возвращается к прежде выработанному женственному имиджу, когда отвечает на вопрос ведущего, готова ли она к повышенному вниманию к себе и светской жизни: «Светская жизнь для любой женщины это естественно…». В ответ на прозвучавшую ироническую реплику Лидии Ермошиной, председательницы Избиркома, брошенную ведущему: «Не преувеличивайте, какая у них светская жизнь» — Анисим улыбалась.
После победы в интервью «Радио Свобода» на вопрос «может, власти считают, что с женщинами им будет легче работать? Женщины все же более покладистые?», Анисим отвечает: «Я тут с вами не согласна. Женщины не более покладистые, а более настойчивые… Не зря же говорят: чего хочет женщина, того хочет Бог». В период президентской кампании у Анисим спросили ее мнение, по поводу того — готово ли белорусское общество к тому, чтобы президентом стала женщина. И она привела два аргумента: количество женщин как потенциальных избирательниц и веру в прогрессивность белорусского народа: «Я думаю, что готово. У нас много женщин. Я считаю, что белорусское общество достаточно интеллектуально, критично и требовательно. И поэтому каждый, кто претендует на пост президента Беларуси или вообще на внимание общества, должен быть готов соответствовать критериям, которые наше общество готово выставить».
Вместе с тем, ее программа, которая увязывает продвижение языка и интересы национальной безопасности, никак не адресуется женщинам, и в ней нет места гендерной повестке. Скорее, наоборот последовательность, с которой Анисим говорит о необходимости «новой крови и энергии» в гражданском национальном движении, располагает распознать весьма утилитарное отношение к женщинам, — они должны выполнить миссию, обеспечить следующим поколением «белорусскую Беларусь, о которой мечтали лучшие сыны и дочери Родины».
Политический успех Елены Анисим: сказка о жертвоприношении со счастливым финалом?
В 2014 г. Елена так комментировала свое отношение к идеи выдвинуть ее в качестве кандидатки на президентские выборы: «Когда идея насчет меня прозвучала впервые, я восприняла это в штыки – мол, тут мужчины пасуют, а женщина, мол, давай выступай. Но идея прозвучала один раз, второй раз, и тогда я уже задумалась. Это заставило меня посмотреть не с точки зрения того, что это даст лично мне, а что это могло бы дать тому гражданскому сообществу, с которым я уже давно работаю. И что это могло бы дать Беларуси. И я тогда сказала: «Если так нужно, и вы считаете, что возможно, то я готова». Лейтмотив жертвоприношения в пользу сообщества сопровождает политическую карьеру Анисим и до сегодняшнего дня. Так, после успеха на выборах в Палату представителей, отвечая на вопрос радиослушателя в прямом эфире, какие свои пять самых главных качеств Елена считает значимыми, она ответила: «Скромность. Интеллигентность. Терпеливость. Смелость. Беларусскость».
Последнее качество Елены Анисим становится все более востребованным. Упование Анисим и ее сторонников на то, «что белорусский язык перестанет быть препятствием, и станет бонусом, путем наверх, в начальство», получает поддержку и в окружении президента. Вместе с тем, усиливающаяся надежда белорусской интеллигенции на язык как проводник национального самосознания располагает вспомнить о дисциплинирующей и даже надзирательской роли языка в националистических движениях. И расположенность власти к такой коммодификации белорусского языка только поддерживает такое отношение. Короткий роман Джулиана Барнса «Дикообраз» о перипетиях демократизации в пост-социалистической Болгарии начинается с описания бессловесного марша простых женщин-работниц с кастрюлями и поварешками: «Зачем слова, когда они и так уже долгие месяцы ничего не получают, кроме слов, сладких, несъедобных слов, которые не утоляют голода. Так пусть лучше говорит металл. Правда, не тот смертоносный металл, который произносит свое слово в таких случаях и оставляет трупы на земле. Женщины говорили без слов: без слов спорили, вопили, требовали и убеждали; без слов они обвиняли и плакали без слов.». Если принять предположение, что таких бунтов белорусские власти опасаются не меньше, если не больше внешней российской угрозы, которую так старательно выпячивали политтехнологи Лукашенко по ходу парламентской кампании, то следует признать, что и власть сегодня нуждается в языке, который станет источником новых стратификаций и, как следствие, действенного надзора. При таком раскладе победу Анисим очень трудно соотнести с усилением положения оппозиции по отношению к режиму Лукашенко. Впрочем, и победа Анны Канопацкой вполне согласуется со стратегическими интересами белорусских властей провести либерализацию социальной сферы и производства в духе китайского экономического чуда.
Назад в будущее: волшебное средство либерализации Анны Канопацкой
Намерение белорусских властей либерализовать экономику приобрело все черты приоритетной стратегии, особенно, после публикации в начале 2016 года книги «Финансовая диета: реформы государственных финансов Беларуси» Кирилла Рудого, помощника Лукашенко по финансовым вопросам. Издание книги было поддержано офисом ООН в РБ. Летнее назначение Рудого послом в Китай, который за последние годы стал наиболее перспективным экономическим партнером Беларуси, можно считать еще одним стратегическим шагом – в пользу сценария «китайского чуда». Рудый критикует государственный капитализм и в качестве стратегического принципа предлагает развитие бизнеса, нацеленного на результат. Предложения Рудого вполне согласуются с основными пунктами программы Анны Канопацкой – предпринимательницы, владелицы юридического бюро и дочери одного из успешных белорусских бизнесменов.
Программа Анны Канопацкой нацелена на потребности бизнеса, защиту свободы предпринимательской инициативы и создание миллиона рабочих мест. Этот популистский лозунг стал ключевым для парламентской кампании Объединенной Гражданской партии. В условиях системного кризиса белорусского производства, когда большинство рабочих остаются в ситуации риска сокращения, фокус на обеспечение рабочими местами должен был, по мысли идеологов ОГП, принести партии голоса избирателей. Индивидуальная ответственность граждан и обязательства власти дать людям возможность свободного развития, узнаваемые клише неолиберализма, объединяют риторику Канопацкой и Рудого. Примечательно, что в отличии от левой оппозиции, БНФ и «Говори правду» правоцентристский блок выступал не против повышения пенсионного возраста, одной из болезненных тем этого политического сезона, но против бессистемности пенсионной реформы, которую лидер движения Анатолий Лебедько, назвал «шоком без терапии». И эта позиция также согласуется с одним из основных пунктов программы Рудого о необходимости либерализации социальной сферы.
Неизбежность либеральных реформ не отменяет того, что они станут фактором нарастания недовольства. Вместе с тем, власть не только не доверяет потенциальным сторонникам таких реформ, бизнесменам, но существенно ограничивает их присутствие в публичной политике. Если количество женщин-кандидаток и депутаток в 2016 г. возросло, то участие предпринимателей существенно снизилось. Накануне выборов Лукашенко заявил о том, что «никакие богатые люди своих депутатов не продвинут в белорусский парламент». Победа Канопацкой, артикулирующей неолиберальный подход, можно считать временным компромиссом между страхом власти перед кооперацией с бизнесом и необходимостью заручаться его поддержкой. Несомненно, что и самой Канопацкой придется участвовать в этом компромиссе. Однако это не единственный и, возможно, не самый обременительный компромисс, да еще и пока потенциальный. С момента вступления в партию в 1995 г. Анна активно участвует в другом компромиссе, двойственном отношении правой оппозиции к женскому ресурсу активизма.
Анна в ящике: политическое тело без политической воли
Канопацкая, как и Анисим, последовательно конструирует свой имидж как женственной женщины – подчеркивая свой материнский опыт, и связывая ответственность за будущее своих двоих детей с мотивацией участвовать в политике. Она не оспаривает утверждений своих коллег по партии, которые не особенно стремятся продвигать гендерную повестку и вводить квоты для женщин. Если принять во внимание тот факт, что в 2016 году ОГП вошла в правый блок с движением Белорусских христианских демократов, которое последовательно реализует проекты по ограничению прав женщин на доступ к аборту, продвигая гетеропатриархальные ценности, то сомнительно, чтобы в публичном дискурсе Канопацкой появилась такая тема как права женщин. В формальности исполнения запроса Запада на гендерную повестку в публичной политике ОГП вполне сопоставима с политикой белорусского государства по реализации программ гендерного равенства. На сайте ОГП есть подраздел, посвященной данной проблематике. Однако заголовок секции — «Мужчина и женщина. Гармония и равенство» — недвусмысленно отсылает к вполне традиционному представлению о семейных ценностях.
Традиционность установок транслируется и в ожиданиях от участия активисток в политике. Так, приветствуя участниц объединения «Гендерное партнерство», которое пытались зарегистрировать в рамках ОГП в начале 2016 г. Анатолий Лебедько заявил, что видит «большой потенциал» в создаваемом женском объединении. По его словам, организация не будет политической. Тем не менее политик считает, что «было бы очень хорошо», если бы ее представительницы приняли участие в парламентской кампании 2016 года. «Мы знаем, в какой стране живем, как считаются голоса. Но кризис заставляет власти пойти на некоторую либерализацию. Давайте используем появляющиеся возможности на 100%. У нас есть послание к людям «Миллион новых рабочих мест». Было бы хорошо, если бы оно говорилось и женскими устами», — сказал Лебедько. Видимо, именно такую роль и отводил правоцентристкий блок 16-ти кандидаткам, в том числе, и Анне Канопацкой на старте предвыборной кампании.
Более того, победа Канопацкой застала оппозиционеров врасплох. На фоне весьма умеренных успехов большинства кандидаток правоцентристкого блока, которые по официальным данным набрали в среднем 2,2-3% голосов, победа Анны Канапацкой да еще и над Татьяной Короткевич (экс-кандидаткой в Президенты в 2015 г.), которая баллотировалась в том же округе, стала сенсацией. Вместе с тем, именно эта победа расколола правое крыло оппозиции, часть которой требовала отказаться от мандата, а руководство которой, после совещаний, приняло решение принять мандат. Победа Анны Канoпацкой обнаружила не только несогласованность правой оппозиции в отношении к политическим компромиссам, но и весьма своеобразные двойные стандарты относительно гендера. Трудно представить, чтобы требования отказаться от мандата выдвинули бы кому-то из лидеров правой оппозиции — мужчинам, — если бы им доведись победить на таких выборах. Интересно, что Анна Канопацкая сама не присутствовала и на дебатах «Дело принципа» Выборы 2016 на центральном телевизионном канале на следующий день после выборов — в отличии от Елены Анисим, Татьяны Короткевич, Ирины Вештард (лидерка Белорусской социал-демократической партии Грамада) и Анастасии Дорофеевой (лидерка партии «Зеленых»). Правый блок был представлен на программе оппозиционером Львом Марголиным. На тот момент, еще не было принято решение о «мандате Канопацкой», которое, по словам лидера ОГП Лебедько, должно было стать результатом совещаний с партийцами. Однако негативная реакция многих оппозиционных активистов на финальное решение Лебедько принять мандат свидетельствует о том, что решение явно принималось иначе.
Дебаты вокруг того, должна или нет Канопацкая принять мандат, стали социальной борьбой за этот неожиданный выигрыш. Ольга Майорова, одна из самых опытных участниц движения, стала публично угрожать выходом из ОГП, как и ряд других известных активистов партии, в случае решения ОГП в пользу принятия Канопацкой мандата депутата. Основными аргументами против принятия мандата были нелояльность Канопацкой, предвыборная кампания которой не полностью опиралась на ключевые положения программы ОГП, и непоследовательность линии самой партии, которая не может обвинять в фальсификации власть и соглашаться идти в парламент одновременно. В последовательном непринятии результатов выборов Майорова усматривает те способы аккумуляции капитала, которые доступны ей самой, — как партийной активистки — сохранение позиции надзирателя-популиста, которому не придется принимать ни власть, ни ответственность. Однако период, когда оппозиция могла иметь публичный капитал, но не принимать ответственность, закончился: чрезвычайно низкая явка избирателей, зафиксированная независимыми наблюдателями, даже на участках, где баллотировались оппозиционные лидеры, подтверждает, что их политический капитал на исходе.
Авторки — Виктория Шмидт, Ирина Соломатина.
]]>Одна из актуальных проблем женских инициатив – стремительность, с которой наработанный активистками капитал отчуждается в пользу интересов, работающих не на защиту прав женщин, а скорее на ограничение этих прав. По убеждению Виктории Шмидт, одним из результатов нашумевшей акции #Янебоюсьсказать стало именно такое отчуждение. Большое количество слов со стороны разнородных комментаторов, активно продвигающих свою позицию и зачастую подменяющих проблему насилия над женщинами нерелевантной критикой, было сказано в поддержку собственного интеллектуального и социального капитала. Закономерно ли такое развитие флешмоба? Да – если считать его одной из моральных паник.
Сегодня моральные паники являются довольно заметной практикой, характерной для российской публичной сферы. Стэнли Коэн, который и ввел в исследовательский обиход концепт моральной паники, определил ее следующим образом: это сценарий, обыгрывающий индивида, группу, событие или некую практику как весьма серьезный риск и вызов общечеловеческим ценностям и безопасности. Страх перед этим риском – основное социальное топливо моральной паники. Она воздействует эффективно постольку, поскольку пугает большинство публики. Переживание такого страха располагает искать его обоснование и требовать гарантий. Моральная паника призвана мобилизовать разные социальные группы в пользу выработки исчерпывающей аргументации против. Одна из самых эффектных моральных паник последнего времени – движение АнтиЮЮ (одиозное движение против профессионализации защиты детства), заручившееся поддержкой самых разных людей: и тех, кто использует рафинированые аргументы о необходимости ограничить вмешательство государства в дела семьи с отсылками к Гоббсу и Шмитту, и тех, кто опирается на традиции и православные каноны семейной жизни. Страх за свое родительство «сшил» разные социальные группы и их аргументации в общую позицию тотального недоверия органам опеки и другим специалистам, занимающимся защитой прав детей. Вместо разнообразия экспертных позиций моральная паника генерирует стилизованную манеру, ориентированную на клише и стереотипы в пользу доходчивости программы. Признанные обществом антрепренеры морали строят целые баррикады из публичных высказываний с диагнозами и рецептами борьбы со злом. Со времен первой публикации Коэна в 1972 г. исследования моральных паник существенно продвинулись вопреки скромному интересу социальных наук со стороны ключевых для развития исследований институций, государственных и международных структур. Основным вопросом современных дискуссий вокруг моральной паники остается отношение к т.н. «хорошим» моральным паникам – не тем, которые были инициированы государством или корпорацией с целью отвлечь общественность от щекотливой ситуации (последовательным примером можно считать фильм «Хвост виляет собакой»), но начатых активистами или выходцами из активистской среды. Без сомнений, флешмоб #Янебоюсьсказать – пример моральной паники, инициированной активистами и «хорошей» по своему замыслу. Представленный ниже анализ реакции на эту кампанию нацелен на то, чтобы обсудить светлые и теневые стороны хорошей моральной паники – практики, форматирующей сознание российского общества в отношении таких серьезных проблем, как нарушение прав детей в учреждениях общественного воспитания или домашнего насилия.
Хорошие моральные паники: за и против
Исследователи по-разному относятся к позитивным моральным паникам. Одни указывают на неизбежность и полезность такого рода кампаний для трансформации общественного мнения. Другие относятся к ним критически, продолжая считать любую кампанию подобного рода порождением культуры страха, неизбежно отчуждающим от углубленного понимания проблемы, которое в данной ситуации столь необходимо (Jenkins 2009). Те, кто читал многочисленные отклики на исповеди женщин, вполне могли проникнуться атмосферой страха, за которым неизбежно следует объективация, причем не жены, подруги, дочери или сестры, а женщин вообще.
Доводом в пользу «хороших» моральных паник становится необходимость преодолевать нормализацию страдания, характерную для современной публичной сферы (Cohen 2011). Потребность оставаться невинным в проблемной ситуации, свойственная современному человеку, обуславливает такой механизм защиты как псевдоглупость – когда интеллектуальные ресурсы используются по преимуществу для установки фильтров против информации, неизбежно приписывающей ответственность и даже вину (Wurmser 2000). Публика использует различные фильтры, от более распространенного отрицания того, что страдание есть, до готовности признать страдание оправданным в пользу общественной безопасности. Реакция на флешмоб со стороны аудитории показала все разнообразие фильтров в отношении проблемы сексуального и домашнего насилия: от убежденности в том, что от насилия страдают только неблагополучные до уверенности в том, что насилие чаще обсуждается, чем случается. «Хорошие» моральные паники позиционируются как эффективные стратегии деконструкции таких фильтров. Именно на этом качестве кампании фокусируется Елена Рождественская, указывающая на конфликт нормативных систем, касающихся телесности – конфликт, повлекший за собой поляризацию общественного мнения. Однако интервеционизм паники исчерпывается требованием признать наличие проблемы (Thompson 2011) и сделать это знание как можно более доступным.
Доступность знания о насилии и доходчивость аргументов в пользу борьбы с насилием – обоюдоострый инструмент. Ключевое послание флешмоба – «это может случиться с каждым» – по своей задумке должно мобилизовать аудиторию, но на что? Явно не на переживание эмпатии, которая развивается в преодолении виктимизации (в т.ч. самовиктимизации), а значит и в неприятии позиции, предполагающей, что каждый является либо потенциальной жертвой, либо потенциальным насильником. Если признать, что триггером сопереживания и сочувствия является способность отделить виртуальный опыт от личного, пережитого off-line, и уважать опыт другого без примерки этого опыта на себя, то флешмоб свел ресурс эмпатии к нулю. А потому первая стадия работы с травмой, ее повторное переживание (acting out) так и остается единственным действием, поскольку переход к проработке травмы (working through) заблокирован самой природой моральной паники. Ведь моральная паника не просто не сработала как терапевтическая практика, но еще и сконструировала реакцию в терминах потенциальной вины.
Моральная паника развивается по законам мелодраматического жанра, в котором бесчеловечный и всемогущий злодей истязает невинную и бессильную жертву. В рамках флешмоба роль злодея отводилась не только мужчинам, но и самому укладу жизни, которому свойственна безграничная власть консервативных гетеропатриархатных установок. Неизбежная инвалидизация жертвы при таком нарративе располагает к героизации усилий по ее спасению. Это блокирует обсуждение проблемы в терминах сил и рисков, присущих любой стратегии, применимой в реальности. Обсуждение разнообразных стратегий, столь востребованных для решения большинства социальных проблем, в том числе насилия, оказывается и вовсе невозможным. Страх, лежащий в основе паники, неизбежно приводит к искаженному восприятию проблемы и к поддержке решений, основанных на упрощенном понимании потребностей тех, в чью пользу моральные паники направлены (Critcher 2011). В случае с флешмобом последовательная криминализация насилия привела как к объективации женщин, не имеющих возможности справляться с насилием, так и к фокусировке на мужчинах, социальная роль которых стала сводиться к обузданию своих инстинктов. И публичное признание, и готовность принять на себя коллективную ответственность, стали позиционироваться как геройство.
Героизируя решение, моральная паника продолжает обращаться к индивидуальной ответственности, что сводит идеологическую подоплеку подобных паник к той или иной версии либеральных ценностей. Те, кто принимают посыл паники, оказываются или среди постлибералов, уверенных в месте проведения границы между ответственностью государства и человека, или среди новых правых, требующих от государства морально оправданных действий (Cohen 2011). Уверенность в том, где проходят границы личной ответственности, конвертируется в упование на государство как на единственного актора, способного изменить ситуацию. Предопределенность такой идеологической начинки моральных паник указывает на то, насколько они далеки от идеалов гражданского участия. Одним из ключевых элементов критики моральных паник становится принадлежность их антрепренеров к благополучной и социально признанной группе, то есть к т.н. среднему классу. Как тех, кто приветствовал кампанию, так и тех, кто публично ее критиковал, действительно можно отнести к среднему классу, представители которого обращаются к «своим», сводя возможность партисипативного подхода к минимуму. В высказываниях моральных антрепренеров позиция оказывается много важнее аргументации, поскольку каждый из полюсов, «за» панику или «против», ультимативно утверждает не свою правоту, а доброту, а противоположный полюс маркируется как «зло». Пренебрежение аргументацией, воспринимаемой в качестве приложения к заявленной позиции, приводит к подмене дискуссии оценками публичных высказываний как «хороших» и «плохих», селекции мнений и их авторов.
Моральные паники приобретают особую силу в периоды культурной неопределенности, утоляя потребность публики в иллюзорной ясности относительно того, что морально, а что нет, чью сторону занять и кого призвать к ответу (Sean 2008; Watney 1987). Ограничиваясь разделением виноватого (творящего произвол) и ответственного (потенциально правильного государства),«хорошие» моральные паники нацеливаются на деконструкцию существующего порядка как имморального, но оказываются неспособны к выработке альтернатив. Это делает их удобным средством для разных групп интересов, имитирующих деятельность по решению предъявленной проблемы в соответствие с ожиданиями публики, сформированными моральной паникой (McRobbie и Thornton 1995). Запущенная активистками инициатива #Янебоюсьсказать была поддержана группами интересов, последовательно встраивающими протест женщин против легитимности сексуального насилия в оппозицию политическому режиму в России. В пользу такой динамики свидетельствует как сами аргументы и воспроизводящие их субъекты, так и последовательное уничтожение флешмоба представителями российской власти в публичной сфере. И те, и другие оперировали аргументом в пользу сохранения человеческого и представляли своих оппонентов как примитивных или необратимо испорченных.
Зигзаг общественного мнения: резонанс либерализма и консерватизма
Недавняя публикация о повсеместных практиках сексуального насилия в царской России была направлена против тех, кто отстраивает национальную идентичность от ностальгии по «России, которую мы потеряли». Увязка прошлого с беспрецедентным насилием в отношении женщин, особенно несовершеннолетних, омерзительными старыми свекрами (фокус статьи приходится на снохачество) способствовала возникновению определенной репрезентации зла и отвратительного в сознании читателя. Получилась яркая картина, в которой зло связано со всем прошлым и отсталым, а его наказание – с движением в будущее и прогрессом. В ход пошли и такие аргументы, как «в Америке уже в 70 г.г.», «для стран первого мира это стало нормой», плотно связавшие борьбу против насилия с западными прогрессивными ценностями. Надежда на молодых, у которых так быстро под влиянием флешмоба формируется спрос на феминизм, стала еще одним аргументом в пользу логики прогресса. Подобная логика неизбежно сводит феминизм к одному из инструментов контроля над собственной жизнью и предписывает столь же жесткие аффилиации молодым, что, руководят автором публикации, их описывающей. Идеализированное отношение к флешмобу как к триггеру солидарности можно интерпретировать как отождествление коллективного и массового, столь типичное для приверженцев индивидуалистических ценностей. Как известно, в финале успешной моральной паники должен быть принят некий законодательный акт, направленный на блокировку зла. В Украине анонс ратификации Стамбульской конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин непосредственно связывают с проведенным флешмобом. Так попытка приписать Украине роль примера для подражания в «более отсталой» России становится еще одним переводом для перевода стрелок с темы насилия на тему оппозиции и прогресса.
Ответная реакция на поддержку флешмоба воспроизводит распространенный аргумент «перед насилием все равны», основанный на исключении гендерной подоплеки насилия. Уравнивая риски мужчин и женщин, Игорь Мальцев транслирует весьма расхожую идею об универсальности прав человека и бессмысленности организации особой защиты прав женщин. Однако, как и в других высказываниях, обосновывающих универсальность прав, в тексте Мальцева неизбежно проявляется приоритет интереса мужчин: например, в заявлении о том, что «сексуальная агрессия со стороны женщин чаще более изощрённая, манипулятивная и подлая». Одной из первых контрреакций на флешмоб стала попытка представить его как диверсию, подрывающую традиции, особенно учитывая время его проведения – накануне нововведенного «Дня семьи, любви и верности». И в скандальном посте Антона Носика, и в статье Петра Акопова обнаруживается дуплет взаимоисключающих установок относительно насилия. С одной стороны, насилие представляется надуманной и раздутой проблемой, происходящий издалека – из мест, которые принято ассоциировать с сексуальным траффиком. С другой стороны, участниц флешмоба упрекают в игнорирования скрытого насилия, которое длится давно, но остается замалчиваемым. Этот дуплет обосновывает взгляд на эмансипацию женщин как на их расчеловечивание, а на тех, кто поддерживает феминизм, как на эгоистичных чудовищ, противостоящих «духовности».
Анимализация женщин среди тех, кто последовательно выступал против флешмоба, вполне сопоставима с анимализацией мужчин теми, кто флешмоб поддерживал. Андрей Фрольченков, журналист КП, без околичностей представил женщин как зверушек, лишенных способности к рациональному мышлению, а его запись о женщинах как о «странных, но красивых существах», можно считать классическим примером бестиализации – приписыванию человеку черт зверя или даже чудовища. Искушение бестиализацией вполне объяснимо не только доходчивостью сравнения со зверем (хотя подобный аргумент построен на более чем сомнительной аналогии), но и ключевой идеей, стоящей за противостоянием тех, кто поддержал флешмоб, и тех, кто его осудил. Оба лагеря в очередной раз боролись за монополию на человечность – универсальное, а значит однозначно правильное понимание гуманитарного. Предложенные конструкции такой человечности отличаются безусловной иллюзорностью: объединяет противников и защитников флешмоба их вера в устойчивый прогресс, пусть и развивающийся по разным сценариям. Симптоматично, что Ирина Костерина, разоблачая биологизм, свойственный публичному мнению, в качестве альтернативы ему указывает на образование и прогресс. В гонке за монополией на человечность и те, кто поддержал флешмоб, и те, кто бескомпромиссно его осудил, не тратят время на локальные контексты и практики, ведь речь идет об интернациональной проблеме, будь то эпидемия насилия или феминизма. Углубленное понимание контекстов подменяется псевдоисторическими экскурсами, как, например, в интервью Костериной, в ходе которого она недвусмысленно указывает на связь конкуренции за мужчин с легитимностью насилием. Такая взаимосвязь вполне годится для более утонченной объективации как мужчин, так и женщин, но не по признаку биологической, а социальной эволюции. Именно поэтому на вопрос «То есть наша среда, в которой до сих пор возможно сексуальное насилие и харассмент, — это следствие разных уровней образования?» эксперт дает утвердительный ответ и добавляет: «И разных систем ценностей».
Минимизация насилия: контексты и локальности
При всем глобальном пафосе обеих сторон из виду упускается происхождение самого насилия как специфически человеческой практики, с которой людям приходится как-то жить и необходимо как-то справляться. Любое обсуждение насилия неизбежно располагает к сакрализации и сублимации жертвы и ее опыта, а также ответного насилия. Проблема с обсуждением и регулированием насилия заключается в трудности установления приемлемого баланса между универсальными концептами и контекстами – как относительно страны, так и конкретного случая. Можно с уверенностью утверждать, что общим контекстом для постсоветских стран становится одновременное сосуществование криминализации и декриминализации насилия: развиваются и инициативы по ужесточению наказаний, и проекты по помощи тем, кто совершил или может совершить насилие. Такая комбинация несет в себе определенные риски и возможности, и только внимание к специфическим контекстам способно помочь нам понять, как относиться и реагировать на сочетание противоречивых тенденций.
Представляется, что пристальное внимание должно уделяться риску вторичного насилия – со стороны институций и специалистов, которых обязали решать проблему насилия, защищать пострадавших и помогать им. Например, в современной Беларуси женщины, имеющие опыт домашнего насилия, изредка обращаются в полицию, потому что о заявлении, как правило, информируются работодатели, социальные службы по защите детства, психологи. В ответ на поступившую информацию семью и женщину ставят на учет. Регулярный мониторинг может привести к изъятию ребенка из семьи группы риска, каковой становится семья с опытом насилия. Настоятельными будут советы женщине начать лечение собственной виктимности, будут предлагаться и прочие меры, которые скорее выполняют функцию надзора, нежели служат профилактикой насилия. Проекты, осуществляемые в Беларуси, показывают, что разорвать порочный круг подмены помощи контролем можно только за счет изменений в работе полиции, помогающих специалистов, активистов и медиков с учетом специфики образования связей между субъектами в каждом конкретном регионе. Кроме того, изучение недостатков свойственных практикам помощи людям, имеющим опыт насилия, имеет не меньшее значение для понимания масштабов проблемы, чем недостатки сбора статистических данных о проблеме. Углубленное понимание того, в какие моменты и как именно система помощи срывается, поможет преодолеть и явный разрыв во взаимодействии активисток и служб, призванных заниматься предотвращением насилия.
Пересмотр установок и практики тех, кто непосредственно связан с принятием решений, связанных с проблемой насилия, и их реализацией не менее важен, чем работа активистов над собой. Исследование, проведенное в Беларуси, указывает на пробелы в позиции женщин, вовлеченных в активистское движение. Кто-то приписывает причину проблемы самим пострадавшим, которые якобы не пользуются существующими социальными лифтами и не достигают социального статуса, позволяющего минимизировать насилие. Кто-то предпочитает делегировать работу по минимизации насилия специалистам и обосновывать свою дистанцированность недостатком компетенций и приоритетом более общих задач. Кто-то остается при убеждении, что продвижение общих прав, в первую очередь гражданских свобод, будет способствовать минимизации проблемы. Несомненно, свойственная подобным позициям готовность пренебречь личным участием и эмпатией, непосредственно связана со специфическим положением женского активизма в Беларуси. Здесь женщины редко продвигают свою повестку, зато сами активно используются для продвижения чьих-то политических интересов. Нет сомнений и в том, что, например, российские и украинские контексты проблемы совладания с насилием разнятся. Достаточно бегло просмотреть публичные заявления экспертов этих стран, чтобы распознать значительный для России конфликт, существующий внутри сообщества психологов, или обнаружить тенденцию встраивания темы насилия над женщиной в националистическую тематику в Украине, когда гендер увязывается с нацией, а тема гендерного насилия – с межнациональным и гражданским конфликтом.
Следует признать, что решить проблему насилия раз и навсегда не удастся. Однако признание этого факта не ведет к отказу от задачи предупреждать и минимизировать насилие. Наоборот, обладая мужеством признать ограниченность контекстами, исследователи, профессионалы и активисты должны строить свои стратегии, не прибегая к псевдоисторизации и чрезмерному популизму в своих высказываниях о насилии. Упование на образованность публики и ее «пробуждение» посредством моральных кампаний – большой соблазн. Удержаться от этого важно хотя бы для того, чтобы сохранить способность генерировать знание, эмансипированное как от фундаментализма, так и неолиберализма – знание, которое конвертируется в стратегии и практики поддержки и активизации тех, кто нуждается в проработке своей травмы.
Виктория Шмидт – исследователь, Университет Масарика, Брно (Чехия), соавтор исследования по домашнему насилию в Беларуси, эксперт сети KNow violence in childhood.
Источники:
Cohen, Stanley. 2011. Whose side were we on? The undeclared politics of moral panic theory. Crime Media Culture 2011 7: 237
Critcher, Chas. 2011. For a political economy of moral panics. Crime Media Culture 7 ( 3): 259-275
Jenkins, Philip. 1998. Moral panic: changing concepts of the child molester in modern America. New Haven, Connecticut: Yale University Press.
McRobbie, Angela and Thornton, Sarah. 1995. Rethinking ‘Moral Panic’ for multi-mediated social worlds. British Journal of Sociology, 46( 4): 559-574
Shear, P.Hier. 2008. Thinking beyond moral panic Risk, responsibility, and the politics of moralization. Theoretical Criminology 12 (2): 173-190
Watney, Simon. 1987. Policing Desire: Pornography, AIDS, And the Media. University of Minnesota Press Wurmser, Léon. 2000. The Power of the Inner Judge: Psychodynamic Treatment of the Severe Neuroses. New York:J. Aronson

Можно смело утверждать, что в популярную историю русскоязычной литературы Светлана Алексиевич войдет как альтер-эго Пастернака: ее тоже мало кто читает, но хорошим тоном считается одобрять. Даже те, кто не читал Алексиевич, знают, что она собирает рассказы тех, кого считает носителями советского – в идентичности которых доминирование идеологического превращает индивида в социальное явление. Если быть последовательным в применении идей Луи Альтюссера, то и сама Алексиевич «навсегда и уже» интерпеллирована – евроцентристскими ценностями человечности, прогресса и равенства. Она стала явлением: регулярным выпуском больших тиражей книг на основе прямой речи тех, кто пострадал и страдает, с определенного момента – публичными заявлениями, суть которых сводится к призыву попрощаться с советским. Поэтому радость за присуждение ей Нобелевской премии приобрела все признаки ритуала идеологического опознания «своего» — того, кто бросает вызов традиции вытеснять травматическое из памяти. Но что предлагает Алексиевич взамен? И кому?
По прочтении ее текстов у меня остается стойкое впечатление, что она обращается не к носителям травматического опыта. Вынув из них опыт страдания («Боль, как доказательство прошедшей жизни. Других доказательств нет, другим доказательствам я не доверяю» (1)), писательница обращается к таким, как она, к тем, кто этой боли не знает, но, узнав ее, должен эмансипироваться от прошлого. В своем афганском дневнике она напишет: «Я вернусь отсюда свободным человекам… Я не была им, пока не увидела нас здесь». В отличии от Дори Лауба, одного из создателей видеоархива выживших жертв Холокоста Fortunoff, утверждавшего, что «Мы спаслись, потому что хотели рассказать, но есть и другая сторона правды: рассказать, чтобы спастись», Алексиевич спасает «завтра» (неслучайно о своей чернобыльской книге она говорит «Мне иногда казалось, что я записываю будущее…») от воспроизведения того неприемлемого для нее образца идентичности, на который она списывает современные проблемы – от экологической катастрофы Чернобыля до путинского режима.
Для меня тексты Алексиевич – последовательный пример того, что Эдвард Саид обозначил как насилие знанием: когда превосходство в объяснении обосновывает стигматизацию опыта Другого словом и делом: «мне неведома страсть ненависти,— говорит Алексиевич, — у меня нормальное зрение». Препарируя воспоминания, Алексиевич занимается тем, что строит «храмы из наших чувств… из наших желаний, разочарований» — по сути, лифт для тех, кто, как и она, противопоставил советское европейскому Просвещению и решил «переехать» в иное историческое измерение. Мешает только одно – не все похоронили то прошлое, освободились от советского и приняли новую веру в лучшее: «Чернобыль для тех, кто там был, не кончился в Чернобыле. Они вернулись не с войны… А как будто с другой планеты… Я поняла, что свои страдания они совершенно сознательно обращали в новое знание, дарили нам: смотрите, вам надо будет что-то с этим знанием делать, как-то его употребить... Если бы мы победили Чернобыль или поняли до конца, то думали и писали бы о нем больше». А потому следует найти очень сильные приемы убеждения – в пользу будущего. Насилие знанием складывается из эпистемологического насилия, блокирующего право вырабатывать знание о себе и транслировать его; из насилия эссенциализмом, когда знание обосновывает негативную оценку определенной черты или качества, которые нейтральны; и из насилия опасением, когда знание обосновывает неблагоприятный прогноз и разрешает превентивные насильственные действия именно в пользу будущего. В текстах Алексиевич эти формы насилия знанием не только легко распознаются, но, резонируя, блокируют рефлексию – как того, кто делится своим опытом, так и того, кому предстоит о нем прочесть. Апологеты ее текстов обосновывают свою позицию тем, что до Алексиевич никто не ходил в «поле» – к носителям опыта травмы. Но что остается в поле после Алексиевич?
Не хочется выпадать из общего хорошего тона сравнивать писательницу со стóящими авторами стóящих текстов, тем более, что, по моим читательским ощущениям, тексты Алексиевич и впрямь по стилистике и направленности вполне сопоставимы с текстами Саула Фриедлендера – автора исследований Холокоста, получившего весьма престижные премии за свои книги, пусть и не имевшего шанса номинироваться на Нобелевскую премию по литературе. Своей миссией Фриедлендер считает преодоление неверия в масштабы Холокоста, в его природу и т.д. Исследователь распознает в сложившемся отношении к Холокосту как к невероятному явлению 20 века огромный риск. Приписывая нацистскому периоду особенную роль, Фриедлендер посчитал не только невозможным, но опасным документирование того периода в традиционной манере. Никакого одомашнивания Холокоста в духе «Банальности зла» Ханны Арендт, по Фриедлендеру, допускать нельзя. Он сосредотачивается на языке жертв, доведенных до грани отчаяния, растерянных, почти утративших способность к рациональному действию.
Заполняя текст прямой речью таких жертв, Фриедлендер стирает грань между рассказчиком и героями повествования. У читателя нет автора, который бы вел его по тексту – но есть текст, в который следует погрузиться. Не опускаясь до приемов китча, неприемлемого, по Фриедлендеру, в той же мере, что и безликое историческое исследование, автор трансформирует историю Холокоста в источник трансцендентального, поскольку его амбицией остается рассказать об уничтожении евреев «интегративно и интегрирующе». Обращаясь со свидетельствами как с голосами в хоре, Фриедлендер стремится гомогенизировать их опыт, чтобы раз и навсегда утвердить только одну приемлемую для него версию понимания Холокоста. Фриедлендер документировал воспоминания тех, кто выжил, причем часто именно тех, кто пережил собственную казнь. Эта предельность опыта выживания остается, наверное, самым сильным аргументом в пользу его позиции, однако именно она усугубляет пробелы культурного архива еврейства и блокирует возможность выстраивать столь востребованное разнообразие связей между прошлым и настоящим, за что Фриендлер и подвергается критике. Соотнося совладание с травмой со стратегией acting out – спасением в последний момент и воздаянием палачам, Фриендлер отказывает своим визави в другой стратегии – working out, то есть в праве на множество интерпретаций. В его конструкции нет места свидетелю – только палачу и жертве. В этой предельности Фриендлер распознает уникальность ситуации, таким образом, связывая историческое, трансисторическое и трансцендентальное. Найденное им решение соответствует его истории, его ценностям, опыту тех, кого он опрашивал. Несмотря на всю критику в его адрес, Фриендлер не относится к тем, кто спекулирует на травмотропизмах – самых разных попытках приписать травме сакральное и сублимирующее значение для целой нации, как, например, это происходит в фильмах «Список Шиндлера», «Катынь» или в книге Алексиевич «Чернобыльская молитва (хроника будущего)»: «Сегодня беларусы, как живые черные ящики записывают информацию для будущего. Для всех».
Как и Фридлендер, Алексиевич подавляет читателя прямой речью респондентов, причем весьма успешно. В ее арсенале имеются самые разные средства, от минимализма в выражении авторской позиции, напрочь лишающего читателя способности к интерпретации, до предельной физиологичности опыта персонажей, берущей«на понт»: «слабо хотя бы прочитать, если не выслушать и написать?!». Но если беспощадность к читателю у Фриендлера встраивается в его личную историю – в историю ребенка, потерявшего в газовых камерах семью и оказавшегося поневоле по ту сторону истории уничтожения евреев, то последовательная и даже скрупулёзная документация разложения у Алексиевич озадачивает. В ее книгах много телесности, но не боли живого тела, а разложения все еще живого или уже умершего. Отказывая прошлому в рациональности, Алексиевич прямо подводит читателя к отождествлению советского с распадом: «Сошлись две катастрофы: социальная — на наших глазах развалился Советский Союз, ушел под воду гигантский социалистический материк, и космическая — Чернобыль. Два глобальных взрыва».
Алексиевич растворяет личную историю в кислотной среде авторского восприятия – в своем неприятии советского, того прошлого, от которого следует освободиться. Можно, конечно, сказать, что автор передает то, что ему сказали, но экспертиза текста о военной операции в Афгане показала, что Алексиевич «творчески перерабатывала слова своих респондентов». Однако читателю не дано услышать голос, увидеть лицо, вдуматься в коммуникацию автора и респондента. А выбранный писательницей стиль не располагает к таким вопросам, потому что правда, по Алексиевич, игнорирует множественность правд, в том числе, и правду о незавершенности травмы. В текстах не обнаружить то, что принято называть историческим слушаньем, уводящим как за пределы патологического страдания, так и за пределы якобы всем известной мудрости. Алексиевич не так уж важно, о какой катастрофе идет речь: автор собирает голоса таким образом, чтобы подтвердить свой центральный тезис об убийственности советского. В сборнике «Зачарованные смертью» посредством простых дихотомий – смерть ребенка и старика, самоубийство поэтессы и фронтовички Юлии Друниной и самоубийство генерала-людоеда Ахромеева – утверждается ключевая для Алексиевич мысль: ««Гомо советикус» — человек, которого вывели в лаборатории марксизма-ленинизма, на одной шестой части суши. Признаемся — это мы. Но этот тип скоро исчезнет, растворится в мировой цивилизации, в которую мы возвращаемся. Одни утверждают, что это трагический и прекрасный человек, другие с холодным отчуждением нарекли его «совком». Кто же мы на самом деле…?! Дети великой иллюзии или жертвы массового психического заболевания?»
Общественная и политическая дискуссия по поводу Светланы Алексиевич становится много более известной и интересной публике, чем содержание ее текстов. Писательница и сама не против представлять себя частью последовательной оппозиции режиму и, как следствие, жертвой этого режима. Даже положительные отзывы критиков и специалистов заставляют задуматься о том, как эти авторы осмысляли замысел Алексиевич и использованные ею средства. Читателю Алексиевич, добросовестно осваивающему жанр документальной прозы, «спотыкающемуся об текст», в понимании собственных реакций на этот текст не обойтись без посредника. Есть те, кто вестернизирует Алексиевич: Елена Гапова, которая вписывает послание текстов Алексиевич в экзистенциальную психологию и приходит ко вполне неолиберальному выводу о личной ответственности за принятие страданий. Есть те, кто признают силу ее книг через ощущение собственной силы: Анна Наринская, которая определяет свой опыт прочтения текстов Алексиевич как борьбу с автором, злоупотребляющим публицистическими клише. Те, чье признание Алексиевич кажется мне непосредственным (например, признание Наринской), призывают читать Алексиевич будто бы назло всем тем, кто переживает иллюзию утраты и считает, что у них украли прекрасное советское прошлое, то есть назло именно тем, кто отдал свои истории писательнице. Может быть, отчасти суды против Светланы Алексиевич, которые в начале 1990-х годов случились из-за Афганских дневников, встраиваются в эту логику взаимного «назло»? Только такой ход событий никак не вписывается в терапевтический катарсис, который должен был последовать за призывом читать новую лауреатку Нобеля.
Я не помню обширных цитат и последовательного разбора текстов у тех, кто пропагандирует чтение книг Алексиевич, зато пространство социальных контекстов, которое образовалось в дискуссиях о ее книгах, разнообразно. И это заставляет распознавать в общественной реакции фрейм из сказки «Каша из топора» – топора событий, по определению Алексиевич, эпических, противостоящих, по логике писательницы, простой жизни. Проблема исторического на постсоветском пространстве, как тот самый топор, который только и делают, что «варят», превращая в предмет разного рода предпринимательской деятельности. Поэтому не стоит удивляться тому, что Алексиевич отделяет личное от авторского, когда, например, извиняется перед афганцем, подавшим на нее в суд за искажение его слов: «Как человек… Я попросила прощения за то, что причинила боль, за этот несовершенный мир, в котором часто невозможно даже пройти по улице, чтобы не задеть другого человека… Но, как писатель… Я не могу, не имею права просить прощения за свою книгу. За правду!». И в этой позиции легко распознать аутоиммунитет, присущий фанатикам – они преданно служат священному культу правды, но не верят тому, чего не могут понять, т.е. почти ничему. Психоналитик Шошана Фелман поставила перед собой цель найти способы учить свидетельству о травматическом опыте как неотъемлемой части культуры того, кто живет в посттравматическое время. Она пришла к выводу, что доступ к осмыслению травмы предполагает доступность множества культурных контекстов, потому что в таком случае фактом остается неоконченность травматического опыта. Так надежда на переход в лучшую жизнь за счет размораживания страдания предыдущих поколений – квинтэссенция писательской деятельности Алексиевич – остается небезопасным обманом.
- Примечательно, что один из бывших афганцев, угрожавших Алексиевич после публикации ее афганских дневников, почти теми же словами описал свое виденье: «Я свою правду в целлофановом мешке нес… Отдельно голова,… Отдельно голова,отдельно руки…Другой правды нет…»
Использованные источники:
Гапова, Елена Страдание и поиск смысла: «моральные революции» Светланы Алексиевич //Неприкосновенный запас, 99, 2015
Наринская, Анна. Степень неготовности// Коммерсантъ-Weekend, №24 0т 27.06.2014
Friedlander, Saul P. Das Dritte Reich und die Juden, Band 1, Band 2 München Beck, 1998, 2006
Caruth,Cathy Trauma: explorations in memory The John Hopkins University Press 1995
LaCapra, Dominick History, literature, critical theory Cornell University Press 2013
Laub, Dori, Felman, Shoshana Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History New York: Routledge, 1992
Said, Edward Orientalism. New York: Pantheon 1978
Виктория Шмидт – исследователь, Университет Масарика, Брно (Чехия). Сфера интересов: история сегрегации цыган на чешских территориях.
]]>
Марина Напрушкина. Кадр из видео «Патриот», 2007.
Президентские выборы в Беларуси по преимуществу ассоциируются с репрессиями против оппозиции – после событий 2010 г. Однако в этом году главной интригой выборов остается Татьяна Короткевич, “единый” кандидат от оппозиции. Авторы исследования «Женский активизм в Беларуси: невидимый и неприкасаемый», Виктория Шмидт и Ирина Соломатина, анализируют феномен первой женщины-кандидата в Президенты – в контексте того, что принесет кампания Короткевич активизму и, в частности, женскому движению.
Татьяна Короткевич – не первая женщина в Беларуси, которая пытается участвовать в президентских выборах. В 2001 г. Наталья Машерова, депутат тогдашней палаты представителей национального собрания Беларуси, дочь бывшего первого секретаря ЦК РБ Петра Машерова, считалась вполне сильным соперником Александра Лукашенко, и аналитики предсказывали ее выход во второй тур, однако Наталья отозвала свое заявление ещё до завершения сбора подписей. Свой отказ она объяснила позицией общественности: «Я шла на выборы за … третий путь развития нашей страны и как независимый кандидат стремилась создать предпосылки для выборов не по принципу противостояния, а во имя консолидации общества. Похоже, что общество к этому пока еще не готово». Давление политических спекуляций оказалось чрезмерным: «Не скрою, без моего участия было выстроено множество сценариев, но все они не имеют ко мне никакого отношения. Я не хочу жить в зоопарке и не являюсь ни «подсадной уткой», ни «троянским конем», ни даже «ежиком в тумане». С попытки Машеровой прошло почти 15 лет, и Короткевич удалось собрать подписи и пройти регистрацию в кандидаты в президенты. Означает ли это, что за этот период беларусское общество стало более готовым к объединению, например, на основе поддержки женщины в качестве кандидата в Президенты?
История выдвижения Татьяны Короткевич в первую очередь отражает двойственное положение системной оппозиции в Беларуси, которая остается заложником власти, и любое действие которой так или иначе повышает капитал правящей власти. В ноябре 2014 г. пять оппозиционных объединений подписали соглашение о процедуре выдвижении единого кандидата на пост президента, так и не дождавшись ответа от Белорусской партии левых «Справедливый мир» и Объединенной гражданской партии (ОГП). Одним из инициаторов такого союза был Андрей Дмитриев, который приложил усилия к быстрому принятию соглашения. Можно предположить, что уже на этом этапе намечается противостояние между компанией Андрея Дмитриева «Говори правду» и Ириной Вештард, главой Беларусской социал-демократической партией (Грамада) (далее БСДП (Грамада)), которая считала, что во имя единства нет смысла спешить с определением кандидатуры. Основным лейтмотивом дискуссий того периода была задача привлечь к выборам внимание Европы – оппозиционеры опасались, что без такого внимания выборы вовсе лишаться политического потенциала. Идея выдвинуть в качестве кандидата «женщину» начинает позиционирваться как один из возможных ходов привлечь внимание к выборам. Вместе с тем, с самого начала именно пол, а не личность был ключевым – так, известный оппозиционный политолог Сергей Николюк шутя, утверждал: «изберите единым кандидатом мою жену — и она автоматом набирает 25%, то есть практически все голоса протестного электората»
Первая волна реакции на идею выдвинуть в качестве объединённого кандидата женщину была предсказуема. Снисходительный скепсис относительно того, что оппозиция не имеет никакого иного оружия против власти кроме «гендера», дополнялся рассуждениями аналитика-популиста Игоря Драко о том, что обленившемуся беларусскому обществу нужна баба, которая бы «побуждала к действию» в пользу преодоления общественного кризиса. Такова предыстория выдвижения Татьяны Короткевич, которая получила заветную регистрацию и стала кандидатом в президенты.
Пост-советские Мулань
Успех кампании Татьяны Короткевич интересен не только тем, что теперь и в Беларуси есть женщина кандидат на пост Президента страны, но тем, что впервые на пост-советском пространстве такого успеха добивается политическая «инженю», прежде вовсе не имевшая опыта публичной политики, в отличии, например от таких грандесс как Юлия Тимошенко или Нино Бурджанадзе. И в других странах на постсоветском пространстве за последние несколько лет возникали откуда ни возьмись смелые кандидатки-самовыдвиженки, как например, Лимана Койшиева, которая предприняла попытку участвовать в выборах Президента Казахстана весной 2015 г., или Нарине Мкртчян, пытавшаяся пробиться в кандидаты Президента Армении в 2013 г., но не сумевшая договориться о оплате залога с бизнесеменами, прежде поддерживающими ее выдвижение. Вместе с тем, несмотря на представленность как опытных женщин-политиков, так и самывыдвиженок, за исключением Литвы президентами женщины становились не в результате прямых выборов, а в ситуации кризиса, как, например, Роза Отунбаева — которая после событий в апреле 2010 г. в начале стала Председателем Правительства, а потом почти на год и Президентом Кыргызской Республики. Весьма схожа и политическая траектория Нино Бурджанадзе, бессменной руководительницы Парламента Грузии с 2001 по 2008 г.г., которая дважды на относительно короткий период исполняла обязанности президента Грузии, с ноября 2003 г. по январь 2004 г., и с ноября 2007 г. по январь 2008 г. Хотя возрастает количество случаев, когда женщины проникают в публичную политику – или уже принадлежа к политической элите, как, например, Ирина Саришвили (участвовала в выборах в Грузии, 2007 г.), или приобретя опыт общественной деятельности как Токтайым Уметалиева (участница выборов в Кыргызстане в 2005 и 2009 г.г.), мало кто из тех, кто намеревается участвовать в президентской гонке, выходят на финишную прямую. Регистрация женщины в качестве кандидата на пост Президента не только успех – но повод задуматься над тем, какова роль женщины в публичной политики и публичной политики – в жизни женщин.
Даже поверхностный анализ программ и публичных заявлений упомянутых нами женщин-политиков, указывает на ряд сходных посланий. Свой приход в публичную политику они понимают как призвание помочь своей стране в трудную минуту, когда исключительно мудрая женщина, способная к мирному решению проблем, может вывести страну из кризиса. Их политические биографии повторяют эпическую историю китайской героини Мулань, которая, переодевшись мужчиной, пошла на войну вместо престарелого отца. Она не только спасла свою страну, получила в знак благодарности от императора должность – но осталась в истории с открытым финалом: не известно, что стало с Мулань после всех ее приключений. Женщины на постсоветском пространстве приходят в политику в трудные времена. Роза Отунбаева так определяет свою задачу: «для меня остается важным лишь одна основная цель – не допустить раскола страны. В этом я вижу свою историческую миссию. Быть может, у моих предшественников были какие-то долгосрочные экономические программы». Исключительность своей роли подчеркивала и Нарине Мкртчян: «Я всерьез обеспокоена общественными, политическими и экономическими процессами. На политической арене нет такого деятеля, с которым я могла бы связывать надежду на осуществление перемен». Несомненно, ни одна из кандидаток не утверждает, что намеревается прийти на позицию президента надолго – наоборот, обещая разрешить кризис, тем самым женщина-кандидат указывает на временность своей деятельности в качестве Президента (видимо, ее мудрости должно хватить и на то, чтобы вовремя исчезнуть с политической сцены).
Почти все женщины подчеркивали свой материнский опыт как источник их инспирации и представлений о должном. Если вспомнить о разделении архетипов участия женщин в публичной политике на позицию оратора и матери (Joann Scott), то легко заметить, что действительно за исключением, пожалуй, Юлии Тимошенко, среди пост-советских женщин, пытавшихся участвовать в президентских гонках, трудно найти ораторш – чьи речи бы не только были выбраны в качестве по настоящему значимых для развития женского движения, но просто запомнились современникам. В терминах Эрвинга Гоффманна, можно сказать, что женщины, идущие в публичную политику, не становятся авторами, но остаются аниматорами – передатчиками идей, причем воспроизводящими наиболее понятные и легко распознаваемые клише обыденного сознания. Несомненно, такая умеренность в проявлении своих способностей убеждать и распространять новые идеи согласуется с той временной позицией женщины в публичной политике, которая остается типичным нарративом. Так, психолог Лимана Койшиева так аргументировала свое решение о самовыдвижении: «Женщина — символ мира и возрождения. Для матери важны такие понятия как единство, согласие, стабильность»
В унисон теме материнства звучит и принадлежность женщин нации. Роза Отунбаева так отвечает на обвинения в дорогом хобби – езде верхом на породистых скакунах: «Вот, недавно с иронией написали, что я езжу верхом на лошади. Это что, для нас какое-то дикое явление? Тысячи кыргызских женщин на джайлоо верхом на лошадях кормят свои семьи. Кыргызы славятся во всем мире как народ, чьи быт и вся жизнь связаны с лошадью. Я кыргызка и этим все сказано.» Юлия Тимошенко не только выучила украинский язык, но последовательно выстроила свой образ как народной принцессы – внеся национальные элементы в современные по покрою костюмы и платья, используя исторические аналогии и цитируя национальных авторов. Ann MccLintock утверждала, что уподобление уклада национального государства семье – с отцом главой, и поданными – женой и детьми, оказалось самым верным средством трансляции гетеропатриархатных ценностей — приписывающих женщине жить ради мужчины. «Естественность» семейного уклада становилась исчерпывающим аргументом, а понимание государства как большой семьи – более чем достаточным концептом для народа.
Если женщины, идущие в президенты и упоминали социальные проблемы, то исключительно в терминах заботы, а не активизации (empowerment), хотя многие и вовсе обходились без обсуждения социальной проблематики, тем более, той, которая бы непосредственно касалась насилия в семье, ограничения права на аборт и т.д. Гендерная повестка не только не вписывалась, а противостояла той позиции, которую занимали женщины в пост-советской публичной политике.
Короткевич: кандидат «под постсоветскую копирку»
Татьяна Короткевич, в своих публичных заявлениях, программе, самой истории своего успеха, воспроизводит те клише и рамки пост-советского участия женщин, в котором не только нет ничего радикального (а гендерная повестка, несомненно, остается одним из признаков радикализации позиции публичной политической фигуры), но, наоборот, преобладают все проявления того консервативного backlash, который отличает постсоветскую политику в отношении семьи и женщин. Дмитриев, автор кампании Короткевич, и глава ее штаба, непосредственно высказывался относительно того, что женщина кандидат навряд ли добьется не то что успеха, но устойчивого внимания потенциального электората, если сосредоточится на проблематике женщин. Программа Короткевич и вправду скупа на предложения относительно поддержки женщин: добиться равенства в зарплатах и обеспечить возможность женщинам совмещать заботу о семье с малым предпринимательством. Вместе с тем, программа вполне ожидаемо начинается с призыва к всесторонней заботе о гражданах со стороны государства.
Однако не только отсутствие гендерной повестки – та особенность кампании Татьяны Короткевич, которая непосредственно становится фактором риска для развития женского движения. Представляестя, что сценарий политической карьеры Татьяны будет тем же, что и у многих ее предшественниц, которые оказались отчуждены от своего символического и человеческого капитала, чьи способности и ресурсы были использованы совсем другими политическими игрокам, и кто вышел из игры – чувствуя опустошенность, обиду и оставаясь заблокированными от понимания произошедшего. Более того, очевидный публичный успех располагает думать о истории Татьяны не только как о очередной, а как последней жертве женского движения в пользу публичной политики Беларуси – которая остается сферой достижений для мужчин.
Кто тратит капитал Короткевич: грязные и не-азартные игры
Капитал Короткевич в первую очередь будет расходовать теперешняя власть – позитивная Короткевич много более удобный соперник, который остается в меру оппозиционным, но вместе с тем, не провоцирующий никаких репрессивных действий в отличии от оппозиционных лидеров кампании 2010 г. Вместе с тем, участие Короткевич придает выборам легитимность – не только оппозиция, но женщина-кандидат от оппозиции участвует в выборах. Нет сомнений, что теперешняя кампания в Беларуси будет как минимум в Европе сравниваться с будущей кампаний президентских выборов в России – и не в пользу последней. Наличие взаправдашней борьбы, да еще между кандидатом-мужчиной и кандидатом-женщиной, придает беларусскому режиму столь желанную демократичность. Маловероятно, чтобы публичное взаимодействие нынешнего президента и кандидатки развивалось по драматичному сценарию украинской кампании 2010 г. «сексист vs. берегиня», когда Янукович неоднократно предлагал Тимошенко продемонстрировать свои таланты на кухни. Наоборот, легко представить себе развитие отношений в соответствие с канонами советской комедии, в которой «Женщина – друг человека».
Короткевич не настолько яркий кандидат, чтобы привлечь внимание другой стороны, от которой зависит политика Беларуси, России. Если в прошлые выборы кто-то из российских акторов поддерживал оппозицию, кто-то непосредственно провоцировал Лукашенко на жесткие меры против оппозиции, то навряд ли фигура Короткевич спровоцирует внимание российских бизнес-структур или спецслужб. Имя Короткевич будет восприниматься как политическая бутафория, на время заполняющая собой пустоту оппозиционного движения. Определенный риск для власти может представлять электорат Короткевич в регионах, где за нее проголосуют как за слабую надежду на иную политику. Однако административный ресурс, скорее всего, поможет справиться и с этой проблемой. Декларируя поддержку беларусского языка, Короткевич, тем не менее, весьма умеренна в своей презентации как беларуска – и никакого риска радикализации вокруг ее кампании также не приходится ждать.
Своим успехом Татьяны Короткевич во многом обязана умеренной, если не консервативной презентации своей программы, выбранной Андреем Дмитриевым. Встроенность в политическую элиту, наличие политической биографии непосредственно интерпретируется как давняя история поддержки женщин со стороны влиятельных мужчин – этот подход практически универсален, и знаком самым разным странам. Неслучайно кандидаток часто называю принцессами, газовыми, нефтяными – принцесса никак не может обойтись без принца. И хотя политическая история Короткевич недолга, и ее никак не получится назвать политической принцессой, с самого начала она связана с именем если не принца, то точно джокера-волшебника – Андрея Дмитриева (1981 г.р.)[1], который уже не раз создавал функциональных оппозиционеров (на президентских выборах 2010 г. возглавлял инициативную группу, а затем — избирательный штаб Владимира Некляева), и который предложил своей бывшей секретарше поучаствовать в президентской гонке. Обоснованно предположить, что именно он – основной держатель символического капитала Татьяны, которым он, возможно, предполагает воспользоваться после 2016 г., когда ему исполнится 35 лет, и он сможет наравне с другим участвовать в выборах. Уже сейчас он тратит капитал Татьяны: в конце мая 2015 г. Дмитриев становится руководителем движения «Говори правду» вместо Владимира Некляева. Его выбрали на республиканском собрании актива организации 28 мая в Минске. Заседание проходило в закрытом формате. Кандидатура Дмитриева была безальтернативной. Ранее он занимал в компании должность заместителя председателя Владимира Некляева. Дмитриев сообщил, что организация решила не выдвигать на руководящие должности Татьяну Короткевич, которая собирается участвовать в предстоящих президентских выборах и, скорее всего, парламентских выборах 2016 г.
Тот потенциал раскола оппозиции, который есть в самой идеи выдвижения женщины – еще один источник усиления позиций как правящей власти, так и Дмитриева, который может разыграть как карту спасителя оппозиции от раскола, так и того, кто составит новое поколения оппозиционеров, сдав в утиль (еще раз) лидеров прежнего поколения. Несмотря на то, что Татьяна в начале кампании представляла объединенную оппозицию (коалицию «Народный референдум»), ее кампания не обладает ни тогда, ни теперь ресурсом объединения, скорее, наоборот. Достаточно обратиться к списку доверенных лиц, в котором известный своими последовательными сексистскими установками экономист Сергей Чалый (чьи высказывания о противопоставлении феминисток нормальным женщинам публично обсуждались как оскорбления) соседствует с главой рабочей группы «Женщины БСДП» Жанной Сементович. Она также входит в недавно созданную активистками ряда оппозиционных партий и общественных организаций женскую сеть «Мара». Несомненно, главной фигурой кампании остается Андрей Дмитриев, амбициозный политик, в интересы которого входит долгосрочная карьера в исполнительной власти.
В конце июня Ирина Вештард, глава партии БСДП (Грамада), инициировала решение партии не участвовать в создании инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты Татьяны Короткевич, хотя участники движения вполне активно собирали подписи – почти треть собранных подписей приходится именно на усилия рядовых партийцев. Именно их Короткевич называет активными гражданами и настоящими участниками политического процесса. В конце августа партия БНФ отказалась от дальнейшей поддержки Короткевич, руководитель БНФ, А. Янукевич практически покаялся в поспешном решении партии ее поддерживать: «ничего плохого в наличии на выборах такого кандидата, как Короткевич, нет, но наша базовая группа — национально ориентированные люди. Многие из них считают, что сейчас Партия БНФ их не представляет, в том числе и из-за того, что мы поддерживаем на выборах Короткевич». Однако, пятью месяцами ранее в конце апреля, тот же Янукевич разделял готовность большинства членов (80%) Сейма партии БНФ поддерживать Короткевич.
Единственной основой для коллективных действий среди тех, кто оказался против участия Короткевич, стало стремление оказать на нее давление и вынудить отказаться от участия в выборах. 28 августа бывший политзаключенный Николай Статкевич, председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, лидер создаваемого движения «За государственность и независимость Беларуси» Владимир Некляев и сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец объявили об образовании коалиции и начале общественной кампании с целью делегитимизации нынешних президентских выборов и проведения новых. Некляев до сих пор надеется убедить Короткевич сняться с выборов: «Есть у нас кандидат от демократической оппозиции. И наша задача, мы обсуждали это со Статкевичем, все-таки не оставлять этого кандидата режиму, а убедить его сняться с этих выборов. И это будет самый сильный ход, который только можно сделать. Он спасает оппозицию, вытягивает из этой грязи, в которую она как самоубийца сама себя затягивает, чтобы захлебнуться. Конечно, не только сама по себе, а с помощью тех, кто в спецслужбах занимается этими делами». Можно предположить, что объединившись на основе непринятия Короткевич, старая гвардия продолжит стратегию активного игнорирования власти.
Поскольку впервые в выборах участвует женщина, и ее кампания сопровождается разнообразными скандальными историями, то капиталом Татьяны пользуется и пресса, тем более, в современных условиях давления на масс медиа оставаться интересными, но соответствующими ожиданиям консервативно мыслящего населения становится все трудней. Мало кто из журналистов встраивают анализ кампании Короткевич не в событийный ряд, а обсуждение проблем участия женщин и гендерную повестку. Скорее всего, такой аспект не очень интересен и сторонникам Короткевич.
Конец женщин в публичной политике Беларуси?
Происхождение символического капитала Татьяны непосредственно связано с игнорированием гендерной повестки в ее программе – а потому невозможно представить, чтобы кампания Короткевич повлияла на актуализацию гендерной проблематики, или женское движение могло бы использовать ту или иную меру успеха Короткевич для актуализации своих интересов. Примечательно, что Татьяна никак не среагировала на обращение к кандидатам в президенты «Услышать женщин!», составленное представительницами Сети Женских Организаций «Единство в сотрудничестве». Сценарий, придуманный Дмитриевым, делает стратегию оппозиции долговременной и в этой стратегии нет места не только гендерной повестки, но и самой Короткевич.
История Короткевич располагает задуматься над тем, стоит ли так уповать на участие женщин в выборах, как в исполнительную, так и законодательную власть, если представленность гендерной повестки, по опыту других стран, становится не результатом такого участия, а одной из движущих сил. Вместе с тем, чрезмерное упование ведет не только к разочарованию в политике, но как убедительно свидетельствует случай Короткевич – к отчуждению женщин от собственного символического и человеческого капитала, блокации их способности действовать в пользу интересов самих женщин. В самый раз вспомнить монолог Вадима Дульчина, альфонса, который так успешно разводит наивную вдову Юлию Тугину в пьесе Островского «Последняя жертва», а когда ресурсы той приходят к концу, безжалостно предает ее: «Твоя бесконечная преданность дала мне несчастное право мучить тебя. Твоя любящая душа все простит… и ты опять будешь любить меня и приносить для меня жертвы». Сказочно ироничный happy end пьесы только еще сильнее убеждает в том, что в повседневности женщины, приносящие себя в жертву – даже во имя идеалов, которые кажутся им такими светлыми, подставляют не только себя, но своих же — других женщин.
А потому ничего парадоксального в том, что снять эффект последней жертвы можно только коллективным усилием, нет. Действительно, в сфере публичной политики ответственность приходится не только на тех, кто манипулирует или кто становится инструментом манипуляции, но и на целевой группе – на которую и направлена манипуляция. Очевидная обреченность Татьяны на роль временного статиста, который без политического прошлого, непосредственных связей с политическими и бизнес элитами явно не сможет продолжить свою политическую карьеру, располагает думать, что когда ее символический капитал израсходуется, ей ничего не останется, как уйти – что вписывается в нарратив временного лидера. Только если такие фигуры как Отонбаева или Тимошенко уходят не в никуда, а иные области публичной политики, скорее всего, Татьяна уйдет в политическое небытие вместе с надеждами тех, кто помогал ей – как многие ее предшественницы, более и менее заметные в свое время на политической сцене Беларуси. Пока оппозиция остается заложником власти, гендерная повестка остается заложником оппозиции и женщин, помогающих оппозиции держаться на политическом плаву.
Виктория Шмидт и Ирина Соломатина — социологи.
]]>