Бесчеловечность уюта
О пропасти между Рубинштейном-поэтом и Рубинштейном-публицистом.
Впервые я читал стихотворения Льва Рубинштейна, ещё не представляя его публицистики и вообще не зная ничего о его общественной деятельности. Это были его знаменитые карточки: отдельные отрывочные фразы, напечатанные на серии картонок. В своём тексте «Московский романтический концептуализм» 1979 года Борис Гройс анализирует эти и им подобные тексты, уподобляя их сериям обезличенных команд. В этих стихах я ощутил человечность – человечность внутри бесчеловечности и благодаря ей: среди безличных, анонимных, клишированных фраз субъектность возникала только в точках обрыва, в пространстве между карточками. Например, лейтмотив серии карточек «Всё дальше и дальше» (1984) – призыв не останавливаться в комфорте и счастье и все время идти от одной карточки к другой: «Здесь куда взгляд ни упадет – всё прелесть, что ухо ни уловит – всё сладкий напев, кто что ни скажет – всё истина. Но пойдем дальше».
Именно потому у меня вызвало оторопь столкновение с текстами Рубинштейна-публициста, что в них все было наоборот: их человечность, нарочитая, претендующая на полную всамделишность и доверительность, оказывалась штампом, оказывалась псевдочеловечной и потому античеловечной. Своё умение точно воспроизводить штамп, ожидаемую интонацию, столь удачно работающее в поэзии, в своих статьях Рубинштейн направлял на службу тем самым «прелестям», «сладким напевам» и «истинам», на которых в своё время призывал не останавливаться. Ретроспективно этот привкус уютного мещанства замарал для меня даже его стихи – я потерял доступ к тому захватывающему дух чувству зияния между строк, которое возникло у меня при их чтении в первый раз.
В своей публицистике Рубинштейн опасно близко подошел к грани пошлости. Пошлость как на уровне языка, риторики, так и на уровне политических суждений, – это стремление избежать всяких сомнений, достигнуть полного слияния автора и читателя, говорящего и слушающего, основанное на императиве «чувствуй так же, как я, ведь это очевидно, естественно, нормально». Рубинштейн тоже обращается к читателям, как к «непредвзятым» и способным вынести очевидное суждение, или как к «нормальным людям современной цивилизации», совершенно не пытаясь сделать рефлексивный шаг по ту сторону фасада «европейских ценностей». Он доверительно, но властно указывает, какие чувства естественно испытывать человеку в той или иной ситуации. Например, в связи с освобождением Ходорковского: «Первая реакция – это, конечно, радость. … Всё остальное – потом». Это торжественное «остальное – потом» повторяется в начале и в конце текста, замыкая его в идеальную мантру сочувствия. Куда же подевалось беспокойное «но пойдем дальше» Рубинштейна-поэта?
Главный соучастник публицистики Рубинштейна – это люди, тысячами лайкающие его колонки, это те читатели, которые готовы идентифицироваться с его успокоительными речами. Одна из моих друзей в фейсбуке запостила очередную колонку Рубинштейна на «Гранях» с восторженным комментарием: «Как всегда: каждое слово – точно на своем месте!» Сама того, скорее всего, не понимая, она дала лучшую характеристику пошлости: в пошлости каждое слово точно встает на место, предписанное ему банальностью языка.
Чтобы достичь искомого консенсуса с читателем, Рубинштейну приходится обходить острые углы и риторически показывать свое умение выстраивать баланс мнений. Даже пресловутое «остальное – потом» – это призыв оставить перед «естественными» чувствами все тревожные, противоречивые и по-настоящему проблемные размышления. Другой типичный риторический прием Рубинштейна-публициста – сперва поставить некий вопрос, а потом сказать, что ответ на него здесь не важен, что и так всё ясно нормальному человеку. Например, в статье «Не жалейте флагов» есть такой пассаж: «Возможно, это было бездарно и глупо, а может быть, остроумно и талантливо – ничего не могу сказать, не видел — не слышал… Но зато знаю…» – и дальше много верных слов, а в конце, когда все правильное уже сказано, апофатическое подтверждение очевидности написанного выше: «Не буду я всего этого говорить. Это и без того все знают».
Политический либерализм Рубинштейна оформляется им как «здравый смысл» и оказывается коррелятом уютности языка. Таково типичное свойство постсоветского либерализма, в котором требования свободы рыночной и политической неизменно идут в (якобы очевидной) связке с «нормальными» человеческими ценностями, семейственностью, спокойной и доброй частной жизнью. Такой либерализм – последствие насильственного характера социальности СССР, фасадной общности советского общества. «Скажу честно: меня мало волнуют всяческие символы и знаки, особенно если они ассоциируются не с чем-то интимно-семейным, а с чем-то безлично-государственным» – такую оппозицию проводит Рубинштейн. Но предлагаемая Рубинштейном семейственная общность чувствования – это также общность ложная, годная лишь для приятного замыкания в своей социальной прослойке, а не для стремления к разомкнутости, к преодолению границ, необходимому сегодня в ситуации распада социальных связей. По ту сторону уюта рубинштейновской публицистики сквозит желание перечеркнуть разнородность, различия, разногласия внутри общества. Оправданием этого желания служит гордость – потенциально репрессивная гордость своей интеллигентной нормальностью, скрыто предполагающая, что есть люди ненормальные, о которых лучше слишком сильно не задумываться. То, что такая риторика пользуется большой популярностью у российской протестной общественности, указывает на тоску людей по общности, – но одновременно и на стремление к простым, уютным, нарциссическим ответам, то есть на нежелание столкнуться с социальной реальностью. Поклонники Рубинштейна пытаются прийти к общности в обход общества. Одним из апофеозов этого стремления замкнуться от реальности российского социума стали некоторые места диалогов Рубинштейна с Григорием Чхартишвили в журнале «Большой город». Например, в диалоге «Занимательное страноведение» миф о двух Россиях: просвещенного интеллигентского сопротивления беззаконию и хтонической державности, опричнины и КГБ, – всерьез обсуждался как адекватная модель описания страны.
Всё это вызывает у меня не столько раздражение, сколько грусть. Симуляцией уюта интеллигентской кухни занимаются сегодня многие – от ведущих «Школы злословия» до хозяев кафе «Мастерская», – но мало у кого из этих людей есть опыт производства неуютной концептуальной поэзии. Так и хочется в конце очередной колонки Рубинштейна вдруг прочесть «но пойдем дальше», перевернуть карточку и увидеть на обороте вторую, проблемную статью, или просто что-то совсем иное, чем ожидал, нелепое, странное. Но вместо этого всегда читаешь успокоительное «остальное — потом». Рубинштейн-публицист, в отличие от Рубинтешйна-поэта, тщательно скрывает, что его тексты – лишь речи актера на сцене, за кулисами которой находится нечто совсем иное, на что и следует попытаться обратить свой взгляд.
Глеб Напреенко — историк искусства, художественный критик.

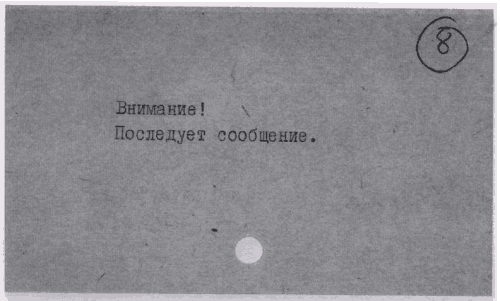

Чем лёвушкино протестное умиленье отличается от глебушкиного протестного умиленья?
Непреенко, эта поза не работает, ты в ловушке.
Вы бы сперва представились, если хотите общаться на ты.
Я в этом тексте не вижу у себя никакого протестного умиления, если вы укажете, где оно, то, может быть, буду готов обсудить.
Представляться не буду, это принципиальная позиция, хотя ничего сверхъестественного за моей персоной не стоит. Мы не знакомы.
Я имею сказать что упирая свой сапог о голову Рубенштейна, вы всего лишь длите дизъюнкцию духа преодоления, попадаете в тот же жанр инвестируя в него. Это как Ольга Львовна эксплуатирующая флюксус и деревянную лошадку. Да?
Иногда лучше жевать, чем говорить в положенном месте положенные вещи. Я только это имел сказать.
В качестве позитивной программы предлагаю забыть Рубенштейна.
Автор, судя по всему, пытался что-нибудь такое гадкое про Рубинштейна придумать, но у него плохо получилось. Только wot что Рубинштейновская публицистика отличается от его концептуальных стихов. Это без сомнения, крупное открытие. Концептуальная поэзия призвана разрушать некие условные художественные клише внутри парадигмы искусства. А публицистика работает внутри общественной жизни и призвана не разрушать, а разьяснять. И вовсе не желанием перечеркнуть разнородность и разногласия внутри общества обьясняется увлечение Льва Семеновича публицистикой, а желанием как раз преодолеть границы, донести свои мысли и мироощущение до самых разных социальных слоев.
Пытаясь повесить хоть какой негатив на ЛС, автор обвиняет его в пошлости, используя при этом им самим придуманное определение — дескать в пошлости каждое слово точно встает на свое место, предписанное ему банальностью языка. Как раз наоборот — каждое слово в пошлом тексте находится не на своем месте. Каждое слово режет слух — но не банальностью языка, а банальностью смысла.
А с чего вдруг автор взял, что диалог с Акуниным основывается на МИФЕ о двух Россиях. Вовсе это не миф, это схема, упрощение, но ни в коем случае не миф — вполне адекватная модель, не лучше, но и не хуже других моделей.
Или вот автор пишет: «Таково типичное свойство постсоветского либерализма, в котором требования свободы рыночной и политической неизменно идут в (якобы очевидной) связке с «нормальными» человеческими ценностями, семейственностью, спокойной и доброй частной жизнью.» — Таково свойство любого либерализма, что постсоветского, что несоветского, что исторического. Рыночная, политическая и прочие гражданские свободы напрямую связаны с нормальными человеческими ценностями. А вот лишение граждан этих свобод связано с ценностями нечеловеческими.
Короче говоря, попытка очернить Рубинштейна не удалась. Являясь очевидным противником либеральной мысли в принципе, автор пытается навесить каких-то собак на человека, который озвучивает эти мысли доступно, умно и талантливо. Не получилось у автора.
мещанство у Рубинштейна. я его не могу читать. банальность на банальности. сытость сухость и поза. старость во всем. старость унылость и пошлость.
да и вообще дух его либеральненький претит, если не вызывает отвращение. на карточках далеко не уедешь. пригов помер. этот сдулся.
пропасть между пареньем поэта-скитальца и приземленностью прозы — его детей — есть разница между высосанностью из пальца и обгрызанностью всех десяти ногтей)
Кстати, помню его (Рубинштейна) молодого, кудрявого, читавшего по библиотечным карточкам свои емкие, точные фразы-стихи — это было очень убедительно!
Читая публицистические высказывания Рубинштейна, всегда испытывала легкое раздражение, объяснить которое не могла: вроде бы все правильно, да и,вообще, он свой, друг друзей, даже лайки из приличия ставила, когда те его постили. А сейчас читаю и думаю:»Кто же это так пишет? Кто же это покосился на святое?))». А это Глеб Напреенко, который всегда отличался ясностью и свободой мысли. Браво, Глеб! А про карточки это я потом написала))
Покусился, естественно)) (см. выше)
Да, банальность, т.е. «автоматичность реакций» здесь главная проблема. Нет индивидуума, есть ожидаемый голос «толпы» — пусть и толпы весьма уважаемого меньшинства. В общем, плоскость вместо работающего интеллекта. Но мне не кажется, что поэтический продукт автора заметно отличается от публицистического.